«Ночные ведьмы» в военном небе Луганщины
Опубликовано: 4.05.2012. 12:37

В канун Дня Победы в военном лицее с усиленной физической подготовкой им. Молодой гвардии преподаватель ЛИВД Валерий Снегирёв презентовал свою новую книгу «Военное небо Луганщины». В основу серии очерков легли материалы историка-краеведа Геннадия Намдарова, архивные документы, недоступные ранее материалы противника , которые открывают новые факты о военном прошлом Луганщины .
Как оказалось, помимо Николая Гастелло, Александра Молодчего, Александра Покрышкина, Боброва, Литвяка, Буданова, в освобождении Луганщины и многих других городов Украины и Европы участовал также единственный женский полк легких ночных бомбардировщиков.
Шагнув в бессмертие, 70 лет назад в июне 1942 года этот полк совершил первые боевые вылеты именно с Луганского аэродрома.
«Ночные ведьмы»
Почему молодые девушки были вынуждены совершать боевые вылеты на фанерных самолётах, отправляясь фактически на верную гибель? Почему это были исключительно ночные операции?
В годы Великой Отечественной войны был такой необыкновенный полк — 46-й гвардейский Таманский дважды орденоносный полк ночных бомбардировщиков, летавший на самолетах По-2. Мужчин в подразделении не было. От техника до командира полка — только женщины, в основном девушки от 17-22 лет. Полк, в котором 25 летчикам и штурманам было присвоено звание Героя Советского Союза и Героя России.
Архивные материалы свидетельствуют, что штурманами этого полка и штурманами трех эскадрилий стали в основном студентки вузов —чтобы помочь Родине в трудный час. В том числе, студентки мехмата МГУ, начальник штаба и начальник оперативного отдела оказались тоже студентками Московского университета. Всех объединяли особый азарт и стремление доказать, что девушки могут быть в бою не хуже мужчин.Немецкие солдаты говорили, что летчиц на По-2 трудно сбить, потому что они «ночные ведьмы».
Полк прошел с боями Донбасс, Сальские степи, предгорья Кавказа — при отступлении Южного фронта, Кубань и Крым — с наступающими фронтами, Белоруссию, Польшу и окончил войну севернее Берлина.
Начало
27 мая 1942 г. полк вылетел на Южный фронт (штаб фронта располагался в Лисичанске). Тогда в нем было две эскадрильи по 10 самолетов и 112 человек личного состава.
27 мая полк прибыл к месту назначения — совхоз «Труд Горняка» под Луганском.
На аэродроме слышался постоянный гул от взрывов бомб и артиллерийских снарядов. Грозным заревом пылали на западе огни пожаров. Тщательная маскировка днем и ночью, постоянная опасность воздушного налета, беспрерывный орудийный грохот — вся атмосфера быстро ввела девушек полка в тревожный ритм жизни прифронтовой полосы.
Однако шел день за днем, а боевая работа не начиналась. Летчицы недоумевали. Они чувствовали, что командование дивизии не испытывало радости от их появления. И действительно, командиры-мужчины были явно смущены пополнением, состоявшим из юных, не видавших войны девчонок.
Их осторожное, порой ироническое отношение к боевой готовности летчиц чувствовалось во всем.
Но девушки считали такое положение временным и мужественно, терпеливо ждали.
В начале июня состоялось партийно-комсомольское собрание полка. Командование объявило о начале боевой работы в следующую ночь — 12 июня 1942 года. В торжественной обстановке весь личный состав части поклялся громить врага так, чтобы стать одним из лучших ночных авиационных полков.
Первыми на боевое задание вылетели экипажи командира полка Евдокии Бершанской и командиров эскадрилий — Серафимы Амосовой и Любы Ольховской.
Перед вылетом комиссар полка Евдокия Рачкевич сказала: « Нас призвали в армию не потому что мужчины без нас не справятся с врагом. Мы пришли в армию добровольно, потому что не могли оставаться в стороне, когда над Родиной нависла грозная опасность. Каждый наш вылет должен приближать победу. Будем биться с фашизмом до последней капли крови! В этой справедливой борьбе мы должны занять такое же почетное место, какое занимают наши подруги в тылу!».
В эту ночь никто не спал. Сначала ждали возвращения экипажей с задания, а потом до рассвета стояли на аэродроме, мучительно вслушиваясь в разнообразную серенаду звуков военного неба. Из боевого вылета вернулись только два самолета — Бершанской и Амосовой. Над линией фронта они попали в зенитный обстрел, но сумели вывести машины к цели, отбомбиться и вернуться домой. О судьбе экипажа Ольховской в полку долго ничего не знали…
Люба Ольховская и ее штурман Вера Тарасова до войны окончили аэроклуб. В дальнейшем стало известно, что Люба и Вера, тяжело раненые, истекая кровью, вышли из обстрела и дотянули машину до окраины небольшого поселка. Утром жители увидели сбитый самолет, а в его кабинах двух безжизненных летчиц. Судьба Любы Ольховской и Веры Тарасовой прояснилась лишь через двадцать три года. В 1965 году в редакцию газеты «Правда» пришло письмо от жителей поселка Софьино-Бродское (территория Донецкой
области), рядом с железнодорожной станцией Дебальцево, над которой и видели самолет Ольховской. Они писали, что в середине июня 1942 года, наутро после бомбежки станции, нашли сбитый По-2 с двумя мертвыми летчицами в кабине. Немцы забрали документы и ушли. Жители поселка тайно похоронили девушек. Сейчас же они хотели бы выяснить имена погибших.
8 мая 1965 года при огромном стечении народа состоялись похороны летчиц. Останки погибших перенесли из безымянной могилы на городскую площадь города Снежное (Донецкая обл.). Вскоре на этом месте был установлен памятник.
Над Миусом
За один месяц лета 1942 года летчицы полка совершили более семисот ночных вылетов.
На боевом счету женского эскадрона уже было пятьдесят восемь пожаров, шестнадцать значительных
взрывов и две крупные речные переправы, разрушенные с воздуха.
«Мой первый боевой вылет не оставил у меня особенно яркого впечатления, — вспоминала штурман Раиса Аронова. — Все проходило почти как на полигоне. Противник ничем себя не обнаружил — ни прожекторов, ни шквала огня и даже ни единого выстрела. В душе я была немного разочарована.
В течение нескольких последующих ночей боевые вылеты были похожи на первый — противник не обращал на наш самолет никакого внимания. Настала ночь, когда мы с Катей Пискаревой полетели в тринадцатый боевой вылет. Я не верила в дурную славу «чертовой дюжины», так как, по моим наблюдениям, она всегда приносила мне удачу. Катя была об этом числе другого мнения.
— Ну, Раек, сегодня готовься к бою, — не то шутя, не то серьезно сказала она перед
вылетом.Летим уже с полчаса. В темном небе спокойно мерцают звезды. Густой ночной
воздух прохладной струей бьет в лицо. Я всматриваюсь в черноту под самолетом.
Похоже, идем верно.
— Через пять минут будем над Миусом, — сообщаю летчице.
По реке Миус проходила линия фронта. Река — ориентир надежный, различимый даже в
самую темную ночь, ее не проскочишь. Вот она выделяется серой ниточкой на общем мутно-черном фоне земли. Вспышек выстрелов не видно, с трудом верится, что здесь, по берегу, проходит передний край.— Пересекаем линию фронта!
Катя кивает: «Поняла!»
Почти моментально все меняется: и воздух стал мутнее, и вроде гарью запахло, а от земли потянуло холодом — нечто подобное ощущаешь всякий раз, когда оказываешься над территорией противника.
Цель в десяти километрах от линии фронта. Начинаю отсчитывать долгие, тягучие минуты.
— Ложись на боевой курс, — говорю, наконец, летчице. Она удивительно точно выдерживает курс, высоту.
— Бросаю!
Самолет сразу делает ощутимый рывок вверх: четыре бомбы отделились от плоскостей. Несколько мгновений — и под нами рвануло. Цель накрыта.
— Теперь домой! Курс восемьдесят пять градусов, — с облегчением говорю я.
И тут… Что это, обстрел? Вокруг самолета густым бисером замелькали разноцветные
огненные точки. Послышались зловещие хлопки зениток, появились шапки черного дыма. Я завертелась в кабине, ища выхода из огненной ловушки, в которую мы так неожиданно попали. В шутку говорят, что голова у штурмана должна свободно вращаться на триста шестьдесят градусов. Моя в тот момент вращалась, наверное, на все семьсот двадцать».
«Дюймовочки»
Большинство пилотов и штурманов женского полка были «дюймовочками» — невысокими, хрупкими. Это позволяло взять с собой на бомбу-другую больше.
Бомбы подвешивали к корпусу и сбрасывали, перерезая веревки. Мужчин в полку не было, так что «женский дух» проявлялся во всем: в опрятности формы одежды, чистоте и уюте общежития, культуре проведения досуга, отсутствии грубых и нецензурных слов, в десятках других мелочей. А что касалось боевой работы…
«Наш полк посылали на выполнение самых сложных задач, мы летали до полного физического изнеможения. Были случаи, когда экипажи от усталости не могли выйти из кабины, и им приходилось помогать. Полет продолжался около часа — достаточно, чтобы долететь до цели в ближайшем тылу или на передовой противника, сбросить бомбы и вернуться домой. За одну летнюю ночь успевали сделать 5 — 6 боевых вылетов, зимой — 10 — 12. Работать приходилось и в кинжальных лучах немецких прожекторов, и при сильном артобстреле», — вспоминала Евдокия Рачкевич.
Задача стояла одна — измотать противника непрекращающейся ночной бомбежкой. Запредельная нагрузка. К тому же, как метко заметил дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Григорий Речкалов, «летать днем и пить ночью совсем не то, что летать ночью и не пить вовсе».
Фронтовые «сто граммов» получали и летчицы. После напряженных боевых вылетов им выдавали сто граммов водки или сухого вина. Они объединялись по несколько человек, сливали спиртное в бутылку и отдавали портным и сапожникам батальона авиационного обслуживания, которые перешивали девушкам шинели и гимнастерки. Но самое главное - подгоняли по ноге хромовые мужские сапоги 42-го размера.
.До середины 1944 года экипажи летали без парашютов, предпочитая взять с собой лишние 20 кг бомб. Но после тяжелых потерь пришлось подружиться с белым куполом. Пошли на это не очень-то охотно — парашют сковывал движения, к утру от лямок ныли плечи и спина. Если не было ночных полетов, то днем девушки играли в шахматы, писали письма родным, читали или, собравшись в кружок, пели. А еще вышивали «болгарским крестом». Иногда девушки устраивали вечера самодеятельности, на которые приглашали авиаторов соседнего полка, которые тоже летали по ночам на «тихоходах».
«У нас тихая скорость была, мы ночью летали, в одиночку, — вспоминала Надежда
Попова. — Я поднимаюсь, лечу на задание, у меня подвешены бомбы. Я могла взять триста килограмм бомб, иногда максимально - 400 кг. И летела за линию фронта. Иду бомбить какую-то цель, определенную, скажем, скопление войск противника на передовой, перед наступлением наших войск. Вот это скопление войск противника, в таком-то квадрате. Мне надо бомбы сбросить сюда. Вижу, что сбросила бомбы, попала в цель. Это видно. Начинают рваться снаряды, значит, выполнила задание. В это время нас ловят прожектора. Вы знаете, они для нас были гибели подобны, потому что они ослепляют летчика, и летчик ничего не видит, а пилотировать летчик должен по приборам. А моя задача была все-таки найти цель и вести, несмотря на прожектора, прицельный огонь. А еще я должна была выйти из зоны этих прожекторов и увернуться из-под обстрела. И вот, выполнив задание, я скорей начинаю
снижаться и уходить на свой аэродром. Летали мы без парашюта. Был такой случай у
меня. Впереди меня идет летчица, она сбросила бомбы, а ее поймали прожектора. Я
моментально сбросила бомбы, скорей отхожу, а ее уже держат в своих щупальцах
прожектора. И в этот момент открылся такой ураганный огонь! Просто ливень огня! Ее
самолет загорается, а я ей помочь ничем не могу. Экипаж заживо сгорает вместе с
самолетом, и ничего не поделаешь! Мы летали без парашюта…»
Боевой путь полка
12 июня 1942 года состоялся первый боевой вылет полка.
До августа 1942 года полк сражался на реках Миус, Дон и в пригородах Ставрополя. С августа по декабрь 1942 года полк участвовал в обороне Владикавказа. С марта по сентябрь 1943 года летчицы полка участвовали в прорыве обороны «Голубой линии» на Таманском полуострове и в освобождении Новороссийска. С ноября 1943 по июнь 1944 года полк поддерживал высадки десантов на Керченском полуострове, с их же участием произошло и освобождение Крымского полуострова и Севастополя.
В июне-июле 1944 г. полк сражался в Белоруссии, помогая освобождать Могилев, Червень, Минск, Белосток. С августа 1944 года полк действовал на территории Польши, участвовал в освобождении Августива, Варшавы, Остроленки.
В январе 1945 г. полк сражался в Восточной Пруссии. В марте 1945 года гвардейцы полка участвовали в освобождении Гдыни и Гданьска. В апреле 1945 года и до окончания войны полк помогал в прорыве обороны противника на Одере.
За три года боев полк ни разу не уходил на переформирование.
Как свидетельствует архивная статистика, летчицы авиаполка произвели 23 672 боевых вылета. Перерывы между вылетами составляли 5-8 минут. Всего самолеты находились в воздухе 28 676 часов (1191 полные
сутки). Летчицами было сброшено 2 902 980 кг бомб, 26 000 зажигательных снарядов. По неполным данным, полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 2 железнодорожные станции, 46 складов, 12 цистерн с горючим, 1 самолет, 2 баржи, 76 автомобилей, 86 огневых точек, 11 прожекторов. Было вызвано 811 пожаров и 1092 взрыва большой мощности. Также было сброшено 155 мешков с боеприпасами и продовольствием окруженным советским войскам.
Валерий Снегирев
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
 Версия для печати
Версия для печати
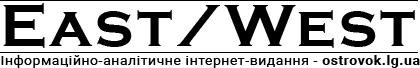















Комментарии
17.05.2013. 11:02 — Гость
coach outlet online
coach handbags new 2012
louis vuitton outlet
louis vuitton
louis vuitton
louis vuitton
バーバリー
バーバリー財布
coach outlet
michael kors
louis vuitton outlet
coach factory outlet
coach store online
coach outlet store online
louis vuitton
michael kors outlet
ルイ・ヴィトン
louis vuitton bags
ルイヴィトン 財布
coach outlet store online
17.05.2013. 11:04 — Гость
coach outlet online
coach handbags new 2012
louis vuitton outlet
louis vuitton
louis vuitton
louis vuitton
バーバリー
バーバリー財布
coach outlet
michael kors
louis vuitton outlet
coach factory outlet
coach store online
coach outlet store online
louis vuitton
michael kors outlet
ルイ・ヴィトン
louis vuitton bags
ルイヴィトン 財布
coach outlet store online