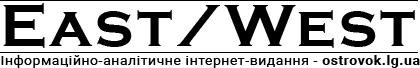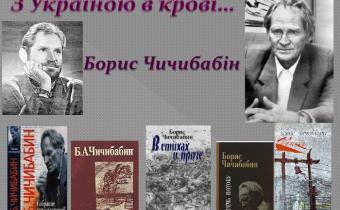Россия теряет научный потенциал из-за «утечку мозгов»
"Утечка мозгов" стала общей бедой на пространстве бывшего СССР. Исключение совтавляет разве что Беларусь. Особенно больно это явление бьет по Украине и России, чьи социально-экономические модели достаточно близки. Информационное агентство "Росбалт" собрало мнения российских экспертов о будущем науки в России. Перепечатываем некоторые мнения.

Олег Смолин, 1-й зампред комитета Госдумы по образованию, доктор философских наук:
«Герман Греф однажды заявил, что вывоз человеческого капитала из России по своим негативным последствиям далеко превзошел вывоз капитала обычного. Напоминаю, что, согласно американским данным, в 1994—2012 годах в среднем вывозилось по $70 млрд в год. Итого за 20 лет эта сумма составила $1,5 трлн, а с начала 1990-х по настоящее время — видимо, порядка $2 трлн. Так вот, по мнению Грефа, потери человеческого капитала более важны для страны, чем потери капитала обычного. И я с ним согласен.
Центр стратегических разработок Алексея Кудрина заявил, что в постсоветский период страну покинули около 18 млн человек — в большинстве люди с достаточно высоким образованием. Ситуация крайне тяжелая.
Напомню еще, что, согласно международным данным, в рейтинге человеческого потенциала мы занимаем 49-е место, а в рейтинге образования — 19-е. Получается, что уровень образования в России выше, чем уровень благосостояния. Мы живем хуже, чем того заслуживаем. Именно это является главной причиной не снижающейся „утечки умов“ из нашей страны.
Мы прекрасно понимаем, что уровень оплаты труда в России несопоставимо ниже, чем в развитых странах. После всех повышений уровень минимальной зарплаты в стране — около $200, а в Китае — $500. Также очевидно, что ученые в России не имеют тех лабораторий, которые могут получить за рубежом.
Если мы хотим, чтобы „утечка умов“ остановилась, нужно предоставлять больше социальных гарантий, обеспечить более высокую оплату квалифицированного труда и, я думаю, нужно больше политической свободы. Люди с высоким уровнем интеллекта на это реагируют достаточно явно. Все это предполагает во многом другой курс политики, в том числе образовательной».
Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, доктор философских наук:
«Так называемый процесс „утечки мозгов“, который наблюдался в России на протяжении всех 90-х годов прошлого столетия, принципиально отличался от того процесса, который мы наблюдаем сейчас. Тогда это было вызвано общим экономическим, социальным и политическим кризисом, поразившим страну. Но с началом 2000-х ситуация стабилизировалась. Казалось бы, с оттоком молодых ученых должно было быть покончено. Однако сработала „мина замедленного действия“ — подписание Россией в 2003 году „Болонского соглашения“ в области образования.
Войдя в „Болонский процесс“, Россия фактически перестроила всю традиционную систему подготовки научных и профессиональных кадров, подстроив их под так называемые „европейские стандарты“. Теперь российские вузы в соответствии с нормами „Болонского соглашения“ вместо подготовки полноценных специалистов должны были выпускать сначала неких „бакалавров“ (то есть специалистов-недоучек) и только затем — магистров.
Кроме того, фактически была ликвидирована система отраслевых институтов. Вместо них появились региональные и федеральные университеты. Таким вузам дали право подписания прямых договоров с соответствующими университетами Европы и США, на основании которых большинство студентов смогли получать сразу два диплома о высшем образовании: российский и зарубежный.
Студенты стали ездить обучаться за границу. Этому способствовало то, что английский язык в соответствии с „Болонским соглашением“ был введен в качестве обязательного языка международного общения и обучения. В результате наиболее талантливые российские студенты попадали в поле зрения западных работодателей, и те весьма охотно потом принимали выпускников наших вузов на квалифицированную работу — им можно было платить меньше, чем гражданам своей страны. Но для российских организаций и такой уровень оплаты был недоступен, поэтому молодые специалисты стали уезжать.
Вторым важнейшим фактором, способствовавшим „оттоку мозгов“ в 10-е годы, стала нехватка квалифицированных рабочих мест для выпускников вузов, а также весьма туманные научные перспективы.
Бесконечные „реформы“ в системе научных организаций привели к тому, что из них стали уходить не только асы, но и молодые специалисты. Они не видели реальной перспективы дальнейшего профессионального и научного роста.
Привело к катастрофическим последствиям и разрушение экспериментальных баз научных учреждений. Молодым ученым стало скучно и неинтересно работать на старом, примитивном оборудовании. А западные научные центры заманивали их новейшей техникой, выделением грантов и ясной перспективой продвижения по научной лестнице.
Сказалась также бытовая неустроенность. Поселения при специализированных научных центрах были практически повсеместно переданы в подчинение местным органам власти. Как следствие — начались бытовые неурядицы, и молодежь сразу оттуда побежала.
В довершение всех проблем, конечно же, на ситуацию повлияла так называемая „реформа РАН“ и подчинение Российской академии наук никому не понятной структуре — ФАНО. Многие молодые ученые из-за бесконечных „преобразований“ попросту потеряли ориентиры! Поэтому многие из наиболее активных и талантливых ученых решили не дожидаться конца всех этих „реформ“ — начали подыскивать себе подходящую научную „базу“ за рубежом.
Думаю, что нашим ведущим экспертам и специалистам давно пора проанализировать сложившуюся ситуацию, сделать соответствующие выводы и, пока не поздно, начать ее исправлять. Потому что уже через 5-7 лет мы можем лишиться наиболее квалифицированных и подготовленных научных кадров».
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии