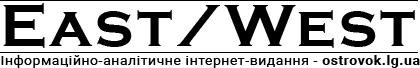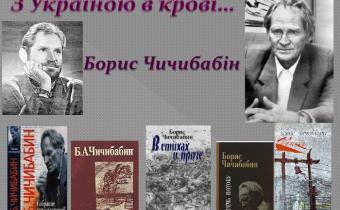Н. К. Козырев. Воспоминание о Михаиле Константиновиче Петрове (в интерьере 1960-х)

Н. К. Козырев
Воспоминание о Михаиле Константиновиче Петрове
(в интерьере 1960-х).
В шестидесятые годы прошлого века (1964 – 1970) я учился на заочном отделении экономико-философского факультета Ростовского-на-Дону университета (в старом здании на Энгельса,105) – на отделении философии. Кафедру возглавлял, если не ошибаюсь, А. Потёмкин. В эти же года там преподавал философию и Михаил Константинович Петров. Две двух-трехнедельные сессии в год были малым временем-пространством для общения с преподавателями, но в течение краткой сессии впечатление от интеллектуального общения было ярким, не заслонялось рутиной повседневного быта.
Интеллектуальная атмосфера на нашем факультете в то время отражала общее драматическое противоречие в общественной жизни страны. С одной стороны, мрачная эпоха сталинизма уходила в прошлое, и многие интеллектуалы-«шестидесятники» стремились осмыслить возможные пути трансформации режима, пытались своим участием придать социализму черты «человеческого лица». С другой стороны, свобода мыслить за пределами идеологического марксистско-ленинского канона пресекалась беспощадно. К тому времени исчезли только «воронки» и суды над «врагами народа». Но тотальный контроль, практика идеологических преследований, административных и криминальных репрессий продолжались. С одной стороны – «хрущёвская оттепель» и явный «ветер перемен», даже глушилки западных «голосов» работали с перерывами; с другой - трагедия расстрела Новочеркасских рабочих в 1962-м (после которой я сам поселился в картотеке КГБ) и военное удушение «Пражской весны» в августе 1968 года. Эти важнейшие события 60-х мрачной тенью накрыли страну, искажали её интеллектуальную, культурную жизнь, в том числе в университетских аудиториях. Везде были тайные агенты КГБ, провокаторы и добровольные стукачи.
Философы, мышление которых выходило за пределы дискурса философского начальства в лице академика М. Митина, искали выход в направлении «творческого марксизма». Их имена звучали и в аудиториях: Э. Ильенков, Э. Соловьев, М. Мамардашвили, В. Швырев, В. Библер, Г. Батищев, В. Мотрошилова… В этом почетном ряду имен был и М. Петров. Я тогда ничего, конечно, не знал о его философских работах, большинство которых писалось «в стол», о его, например, напряжённых дискуссионных разногласиях с Э. Ильенковым. Именно тогда зарождалась настоящая философия социальной жизни советского периода – в попытках преодолеть схематизм плоского детерминизма в рамках широкого исторического пространства культуры.
За давностью тех лет многое в памяти, конечно, стёрлось, остались фрагменты личностного общения с теми преподавателями, которые во время лекций, «покоряли аудиторию». В моей памяти таких талантливых преподавателей, которые выступали с лекциями в нашей группе, было двое – М.К. Петров, и П.М. Абовин-Егидес. Они прошли войну и к тому времени уже платили трагическую дань интеллектуального достоинства и чести насилию партийной идеологической машины. П. Егидес даже прошел плен и гулаговскую тюрьму. Не знаю, каким образом до нас, студентов, доходила какая-то обрывочная информация по этому поводу. Об этом, естественно, не говорилось публично, но мы как-то знали эти факты их жизни, что в наших глазах возвышало их моральный авторитет и придавало некое априорное обаяние личности и приковывало повышенное внимание к их лекциям.
Для меня М.К. Петров в то время был просто интересным, талантливым преподавателем по предмету «История философии». У нас он читал лекции по античному периоду. Внешне он выглядел очень солидной фигурой – высокий, лысеющий, с крупным лицом в очках с тяжелой оправой, с той особенной негромкой интонацией, когда человек во время неторопливой речи обдумывает сказанное. Но, как ни странно, он был (для меня, по крайней мере) более интересным во время перекура – в коридоре, в перерыве между часами «пары». Возле него всегда была небольшая заинтересованная темой лекции группа, с которой он общался и на другие темы. Хорошо помню, как однажды мы, трое друзей (В.Митин, Б.Жалкин и я), после лекции были настолько заинтересованы предметом лекции, которую я, конечно, сейчас не помню, что пошли его провожать. Была июньская жаркая погода, кажется, лета 1966 года. Мы прошли с ним от университета аж до Ворошиловского проспекта и пригласили его перекусить с нами. За проспектом по левой стороне тогда было кафе «Космос», которое славилось фирменной солянкой: в обеденный перерыв там перед дверью на улице часто была очередь за этим блюдом.
Солянка и две бутылки популярного в то время портвейна «777» были прекрасной декорацией нашей беседы за отдельным столиком. Его интересовали мы, наше философское эго, он, как я теперь понимаю, пользовался удобным случаем и говорил «о главном», что могло повлиять на нас. Запомнилось три момента из той беседы. Первое - меня поразил парадоксальный образ: он сравнил трансляцию по телевидению футбольного матча, который два часа смотрят миллионы людей со взрывом атомной бомбы! То есть он говорил об ущербе, понесенным страной в обоих этих случаях. Как я теперь по этому образу катастрофы могу реконструировать один аспект той беседы, разговор был, скорее всего, о роли и значении творческого потенциала каждого отдельного человека. А футбольный матч на два часа отключает мозги всей страны, и это равноценно, по его мнению, опустошению её бомбой. Второй аспект беседы, видимо, лежал в плоскости нравственной зрелости и достоинства человека, потому что запомнился его тезис: вы можете сходить «налево» от своей жены, и это будет ваша моральная вина только перед ней. Но вы не можете без потери себя изменить своему призванию в своей профессии философа. Теперь понимаю: эта максима была в те годы его личной драмой. И третий аспект той беседы, наверное, касался проблемы выбора нами направления работы в философии, потому что он тогда порекомендовал мне купить том К.Маркса и Ф. Энгельса «Из ранних произведений», в котором была напечатана работа Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Эту работу он советовал прочесть, обратить внимание на проблему отчуждения. Возможно, я сказал ему тогда, что меня интересует тема фетишизма в социальных отношениях, навеянная проблемой товарного фетишизма в 1-м томе «Капитала». Поэтому и возникла такая рекомендация.
Рекомендованный том я, конечно, тогда же купил, а сама эта беседа, как и работа Маркса, стали отправной точкой моих собственных философских поисков и личных экзистенциальных проблем. Так, уже в 1968 году на четвёртом курсе я написал курсовую работу на свободную тему «Социализм и отчуждение», а моя дипломная работа называлась так: «Превращённые общественные формы и научное познание». Научным руководителем был Тищенко Юрий Романович. Правда, я пытался в 1969-м поговорить на предмет научного руководства с М. Петровым и с П. Егидесом. М.К. Петрова я не нашел на кафедре, а П.М. Егидес, выслушав меня в коридоре университета, попросил принести ему домой мою работу «Социализм и отчуждение». Мы целый вечер у него дома беседовали, пили чай. Я оставил ему свои сшитые нитками школьные тетрадки, исписанные рукой в поисках ответа на вопрос: какой социализм мы построили?
Только после я узнал, что М.К. Петров в 1969-м был отстранен от преподавания и в 1970-м уволен с формулировкой: « Уволен на основе решения парткома РГУ о невозможности использования на преподавательской работе по философии». А П.М. Абовин-Егидес в 1969-м был в очередной раз арестован. Моя же школярская работа «Социализм и отчуждение» заодно «под метёлку» попала в КГБ.
Видимо, гуманисты этой охранки взвесили мою работу «на весах Иова», и нашли её содержание вредным. В 1971-м я был уволен с кафедры философии Белорусской сельско-хозяйственной академии с записью в трудовой книжке: «Уволен как несоответствующий занимаемой должности». Это был травматический конец академической карьеры и драма жизни. Но именно эта запись дает мне право и честь считать себя скромным учеником Михаила Константиновича Петрова.
Послесловие
Написал я это текст с одной целью - дать более ясное представление об интеллектуальной атмосфере 1960-х. У нас многие, даже образованные люди, к сожалению, имеют превратное представление о той эпохе. Слишком размашистым жестом нигилиста зачеркнули советское прошлое, повесив на него лапидарную табличку: "совок". А уж если напишешь имя Карл Маркс, на тебя накинутся с пеной у рта, не стыдясь обнаруживать собственное невежество.

Николай Кузьмич Козырев, правозащитник. В перестроечное время был депутатом Верховного Совета СССР. (Фото с Facebook)
В качестве заставки использована фотография скульптуры Михаила Константиновича Петрова, выполненная скульптором Ильёй Гуреевым. 2016 год
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
 Версия для печати
Версия для печати