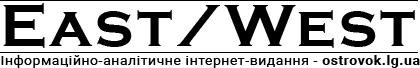Образ врага. Без него никак?
Опубликовано: 30.09.2023. 17:25

Те, кто в последние полтора года бывал в Тбилиси, наверняка видели граффити «Fuck Russia», «Russian страшен», «Русский, пиздуй домой» и так далее. Подобные надписи попадаются и в Риге, и в Берлине, и в Тель-Авиве — но, кажется, именно в Тбилиси их больше всего.

В Грузии нашли приют многие российские политические эмигранты — им там нравится, и они стараются с пониманием относиться к тому, что рады им, мягко говоря, не все. В конце концов, Грузия 15 лет назад воевала с Россией, значительная часть территории страны фактически оккупирована — с поправкой на масштаб все очень похоже на то, что сейчас происходит в Украине. Правда, при всем этом нынешнее грузинское правительство явно пророссийское. Так считают не только представители украинской власти, но даже президент Грузии Саломе Зурабишвили. Российские эмигранты в Грузии — и некоторые из них говорят об этом прямо — привыкли не только к граффити, но и к целому комплексу противоречивых чувств, которые они переживают с начала полномасштабной войны.Ведь одно дело, когда ты осознаешь себя гражданином страны-агрессора и самостоятельно решаешь, какую ответственность на себя брать: активно содействовать победе Украины, публично болеть за нее, по мере сил бороться за «прекрасную Россию будущего» или пристыженно молчать. И совсем другое, когда тебя — не твое правительство, а вот лично тебя — стыдят и оскорбляют только за то, что у тебя российский паспорт. Или закрывают твой банковский счет, на который ты получаешь зарплату. Или не пускают обратно в страну, когда ты возвращаешься, скажем, из командировки.
О том, что путинский режим непрестанно конструирует образы врага, уже много сказано. Но этим занимается не только путинский режим. Да, безусловно: Россия как образ врага в Украине или в Грузии — совсем не то же самое, что образы врага, используемые Москвой; агрессор и объект агрессии находятся в принципиально разных моральных позициях. Однако деление «свои — чужие» характерно для любых общественных отношений и существует даже в тех странах, которые не конфликтуют ни с кем прямо сейчас. Данное явление анализирует оппозиционное российское издание Медуза.


ОБРАЗ ВРАГА
Немецкий юрист и философ Карл Шмитт считал, что деление на «своих» и «чужих» фундаментально для политики. И хотя он был нацист, эта его идея остается очень влиятельной в современной политической мысли — как правой, так и левой.
«Эллины — варвары», «евреи — гои», «славяне (владеющие словом) — немцы („немые“, не говорящие на понятном языке)» — это все простейшие конструкции типа «свои — чужие».
Они помогают строить собственную идентичность. Осознать, кто такие «мы», можно лишь в противопоставлении каким-нибудь «им».
Это деление далеко не всегда так просто и бинарно. И «свои», и «чужие» бывают разные. Скажем, в американском обществе существует особая «культура темнокожих» (Black Culture): музыка, литература, стиль одежды, нормы поведения, даже особый диалект английского языка. Для белых эта культура «другая»: не «своя», но и не «чужая», а близкая и, так сказать, сочетаемая со «своей». Белые могут заимствовать из этой культуры: когда Эминем читает рэп — это типологически то же самое, как когда Пушкин заимствует французские и английские литературные образцы.
Сам принцип, что бывают «свои» и разные «другие», похоже, неискореним. Ему ищут и находят культурологические, социологические, психологические и даже биологические объяснения. Мол, доверие к своим и недоверие к чужакам зашито в нас эволюционно: когда-то это обеспечивало выживание групп охотников и собирателей, а мы от них не так далеко ушли, как хотели бы думать.
Другое дело, что признаки, по которым «свои» и «другие» различаются, почти всегда манипулятивны. Почему «другими» оказываются люди с другим цветом кожи, но не, скажем, с другим цветом глаз? Или вот, например, во многих культурах (будь то античная Греция или современные Филиппины) гомосексуальность и трансгендерность воспринимаются не как какая-то инаковость, а как вариант нормы: есть люди высокого роста, а есть низкого, есть умные и глупые, а есть те, кто чувствует себя женщиной, несмотря на наличие пениса. В других же культурах последнее считается чем-то противоестественным и предосудительным.
Почти всегда можно проследить, кто и когда такие представления внедрил. В случае расизма это были в первую очередь люди, которые наживались на трансатлантической работорговле (для античного и средневекового рабства цвет кожи значения не имел). Политическая гомофобия и трансфобия — плод специфической религиозной традиции (восходящей к Ветхому Завету), помноженной на совместные усилия государств, которые добиваются роста населения, и агрессивных моралистов, которые считают нормальным лишь то, к чему сами привыкли.
Чем острее ощущается, что «мы» не такие, как «они», тем сильнее «наша» сплоченность. И тем менее допустима критика «нашего» образа жизни, «нашей» веры — и, разумеется, «нашей» власти. Поэтому конструирование образа врага — это древнейшая и до сих пор наиболее действенная политическая технология.
ЗАПАД ВСЕГДА СЧИТАЛСЯ ВРАГОМ РОССИИ?
Нет. Не бывает раз и навсегда сконструированного образа врага. Он всегда свеж и, даже если притворяется тысячелетним, на деле всегда сиюминутный.

Характерный образчик — речь патриарха Кирилла на праздновании перенесения мощей Александра Невского 12 сентября в Петербурге.
Фигура Невского вообще играет ключевую роль в концепции «враждебного Запада» (метаморфозы образа благоверного князя в пропаганде подробно исследовал немецкий историк Фритьоф Шенк).
Вот смотрите. В XIII веке князь Александр воевал со Швецией и Ливонским орденом за земли по берегам Финского залива, Невы и Ладожского озера. При этом он не враждовал с монголами — наоборот, исправно платил им дань и из их рук получил старшинство над всеми прочими князьями.
Спустя три столетия, в 1547 году, когда великий князь Московский Иван (впоследствии Грозный) принял царский титул, Русская церковь канонизировала Невского — в первую очередь как основателя московского княжения (он дал его в удел своему младшему сыну Даниилу) и московской династии (Грозный приходился ему пра-пра-пра-пра-пра-правнуком)
А спустя еще почти 200 лет, в 1724-м, Петр I перенес мощи Невского из старой великокняжеской столицы Владимира в новую императорскую столицу Петербург. Ее построили на земле, которую совсем недавно завоевали у Швеции, и этот ритуал должен был символически закрепить права России на эту территорию. Для Петра, очевидно, принципиально важно было то, что Александр в Невской битве 1240 года победил именно шведов.
Прошло еще около 200 лет — и в исторической концепции евразийцев (у нас было про нее письмо) Александр приобрел новое значение, которое наверняка очень удивило бы и его самого, и тех, кто его канонизировал, и Петра I. Оказывается, Невский, когда решил воевать со шведами и ливонцами и покориться Орде, ни много ни мало совершил исторический выбор: дружить с «Востоком», чтобы не поддаться «Западу».
И примерно тогда же, перед самой Второй мировой, в СССР вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» — шедевр пропаганды, где в ливонских рыцарях легко узнаются немецкие нацисты, а главный герой в финале говорит: «Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет» (это коллаж цитат из Евангелия и из речи Сталина на XVII съезде партии).
Наконец, еще через столетие патриарх Кирилл, с которого мы начали эту главу, произносит свою речь на праздновании перенесения мощей Невского. Невский в ней едва упоминается — в основном она про Петра. Кирилл заявляет, что Петербург — это не столько «окно в Европу», сколько, наоборот, крепость на входе в Россию со стороны Европы. И в буквальном смысле, и в символическом: «Чтобы никакие влияния интеллектуальные, псевдоинтеллектуальные лучше сказать, псевдокультурные и псевдодуховные не разрушали внутренней силы нашего народа, не разрушали самосознание народа, [Петр] сделал новую столицу в частности и столицей Русской православной церкви».
Утверждение Кирилла, что Петр «боролся с западными влияниями», только на первый взгляд кажется абсурдным (ведь оно противоречит школьным истинам). Он, конечно, очень много чего заимствовал: и технологии, и идеи, и обычаи, и моды, и слова. Но верно и то, что «духовность» — православное богословие, православную обрядность, а также политическую культуру самодержавия — он тщательно оберегал.
Кирилл не проговаривает, хотя, очевидно, подразумевает то, что не так давно проговорил, например, российский писатель Герман Садулаев (горячо поддержавший войну): злейший враг — тот, кто покушается не просто на «наши» земли и ресурсы, а на то, что делает «нас» «нами». Невский воевал с «Западом» потому, что тот хотел обратить «нас» в другую веру, а монголам покорился потому, что они «духовность» не трогали — их интересовала только дань. Вот и Петр очень четко отличал полезные заимствования от вредных влияний — мол, «нам» нынешним надо брать пример.
Один и тот же образ Невского каждый наполняет каким-то своим содержанием — и оно зависит не от того, что делал и чем руководствовался Невский в XIII веке, а от того, какой политический месседж надо донести здесь и сейчас: в Московском государстве XVI века, в Российской империи XVIII века, в СССР или в русской эмиграции XX века. В каждом случае Невский символизирует «нас», а его значение определяется тем, каким «им» он противостоит. И в современной пропаганде он (а с ним за компанию и Петр) превращается в защитника «традиционных ценностей».
Ни Невскому, ни Петру не была бы понятна идея противостояния какому-то «Западу». Представление о технологиях, институтах и ценностях как о едином «пакете», который может быть «западным», «русским» или, скажем, «китайским», — порождение XIX века. В России его первым внятно сформулировал Петр Чаадаев в «Философических письмах» (первая публикация — 1836 год) — и тем начал пресловутый «спор западников и славянофилов».
С тех пор и по сей день Запад (при всей изменчивости этого понятия, о которой мы писали в письме «Коллективный Запад») для России — «значимый другой». То есть не просто «не мы», а такие «они», которым «мы» себя противопоставляем, чтобы осознать, кто «мы» такие.
«Значимый другой» — совершенно не обязательно именно враг. То у Запада надо «учиться», то он «загнивает», то его надо «догнать и перегнать», то бороться с «низкопоклонством» перед ним. И отношение к Западу все время описывается психологическими метафорами, словно он и Россия — это два человека, связанные какими-то непростыми узами: то «моральное превосходство», то «комплекс неполноценности», то еще что-нибудь в этом духе.
А РОССИЯ — ТОЖЕ ДЛЯ КОГО-ТО ОБРАЗ ВРАГА?
Да, конечно.
Про Украину понятно: Россия развязала против нее агрессивную войну, там она не образ врага, а просто враг. Но обратите внимание, что даже книга бывшего украинского президента Леонида Кучмы (вроде бы пророссийского), изданная еще в 2003 году, называлась не как-нибудь, а «Украина — не Россия». Украинские «мы» осознают себя в противопоставлении не западным или каким-нибудь другим, а именно российским «им».
Точно так же Россия — давно уже «значимый другой» и для Латвии, и для Грузии, и для Казахстана. Для них суверенитет и самобытность — это в том числе «отстроенность» от России как от бывшей метрополии (почитайте потом наше письмо «Анти-Россия» — о том, как постсоветские страны отыскивают собственные традиции государственности, отличные от российского имперского господства).
С Западом сложнее. Во времена того же Грозного или Алексея Михайловича Московское государство на Западе воспринималось, конечно, как «другое» (и религиозно, и культурно, и политически) — но не как «значимый другой», относительно которого определяется, кто такие «мы». Эта роль тогда отводилась скорее Османской империи.
А вот в XIX веке Россия — огромная, сильная в военном отношении и политически влиятельная — конечно, была для Запада именно «значимым другим». Как бы ни конфликтовали между собой, скажем, Великобритания и Франция или Пруссия и Австрия, относительно России все они ощущали себя «нами» — «просвещенными» европейскими странами, которым противопоставлена Россия с ее «азиатским варварством», «деспотизмом», «рабством» и тому подобным.
Характерный пример такого восприятия России — книга Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году», которая пользовалась в Европе большой популярностью. А книга современного американского историка Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу» — фундаментальное исследование того, как Западная Европа в своем коллективном воображении «отделила» себя от Восточной.
В ХХ веке — тем более: Советский Союз — это «красная угроза», «империя зла» и так далее и тому подобное. НАТО — важнейшая структура, определяющая облик Запада, — прямое порождение противостояния с СССР. Помните, сколько было разговоров в последние годы, что НАТО в кризисе, что неочевидно, в чем теперь ее цель? А Путин своим вторжением в Украину фактически вдохнул в него новую жизнь. Вот это буквально оно и есть: чем определеннее образ врага — тем яснее, кто такие «мы» и что именно «мы» должны защищать.
Казалось бы, все должно стать кристально ясно: «они», которых воплощает Путин, против демократии, сменяемости власти, прав и свобод человека, международного права — значит, «мы» должны все это отстаивать. Вот только в той же Грузии уже после 24 февраля 2022 года правящая партия попыталась продавить вполне путинский по духу закон об «иностранных агентах», а ЕС взялся за разработку аналогичной меры «для защиты демократии». Польские власти и после 24 февраля продолжают агрессивную антилиберальную политику, в частности в отношении абортов. В Италии уже после 24 февраля к власти пришли «постфашисты». А в Словакии большинство опросов перед парламентскими выборами прочат победу пропутинским правым популистам.
То ли путинская Россия — недостаточно убедительный образ врага, то ли ее отличительными чертами считаются не авторитаризм, империализм, культ силы и презрение к праву, а что-то другое. Но что? Чем, в конце концов, «мы» отличаемся от «них»?
Вопрос не риторический, правда интересно.
НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ, КОТОРОЕ МЫ СДЕЛАЛИ, ПОКА ГОТОВИЛИ ЭТО ПИСЬМО
Для иудеев один из важнейших способов отличить «своих» от «других» — кашрут, набор строгих (и часто странных для человека со стороны) ритуальных правил, в том числе касающихся еды. Например, некошерными — то есть запрещенными в пищу — считаются любые водные животные, кроме рыб с чешуей и плавниками. Есть версия, что таким образом древние евреи, которые жили в глубине континента и ели рыбу из реки Иордан и озера Кинерет, противопоставляли себя своим врагам филистимлянам, которые жили на морском побережье и ели устриц и креветок. Если так, то этому сигналу «свой — чужой» больше трех тысяч лет.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
 Версия для печати
Версия для печати