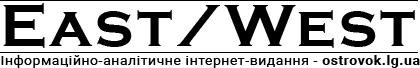Александр Ерёменко. Чашка (Этюд из современной луганской жизни)
Опубликовано: 3.10.2017. 21:17

Эту чашку Артюшенко купил на Майдане в конце декабря тринадцатого года.
Это был период затишья, и Евгений со своим другом Виктором, бродившие среди активистов и зевак, пришли к выводу, что если Майдан не трогать, то он примерно через месяц сам собой рассосётся.
На внешней стороне чашки цветным принтером была нанесена фотография, запечатлевшая всплеск энтузиазма в начале майданного протеста. Заполонившие площадь активисты были сняты со спины. Тут и там реяли украинские флаги. На переднем плане виднелась голова старика – седые пряди выбились из-под кепки. Ярким пятном выделялась фигура мужчины в красной куртке. Он держал флаг Евросоюза. Ветер сложил полотнище несколько необычно: оно напоминало морду дога, а одна из звёзд на голубом фоне белела аккурат на месте глаза. По верхнему краю чашки крупными буквами было написано «Євромайдан», а по нижнему – «Разом до перемоги».
Говорят обычно: «людское море». Но рассматривая картинку, Женя не находил в революционной толпе ничего общего с морской стихией. Если что и напоминали участники митинга, так это каких-нибудь коллективных насекомых: сплочённых муравьёв или роящихся пчёл. А более всего были они похожи на мозаику.
Внутренняя поверхность чашки была сплошь коричневой от чайного налёта – вплоть до своего отъезда из Луганска в августе четырнадцатого Евгений пил чай исключительно из майданного сувенира.
Да, выходит три года он не был в Луганске – давненько, однако! Артюшенко приехал, чтобы забрать всё, что удастся вывезти: телевизор, мелкую мебель, книги. Он не верил в светлое будущее молодой республики.
Его знакомые, которые регулярно посещали стольный град Луганск, обычно хвалили перемены, произошедшие в городе. Все отмечали, что Луганск никогда не был таким чистым, как при Плотницком. Особым предметом восхищения наезжавших были розы.
- Столько роз высадили, особенно в центре! Так красиво! Никогда такого не было.
Квартира Евгения была на восточных кварталах, ему не хотелось мельтешить по центру. Жене не удалось полюбоваться легендарными розами, но он охотно верил знакомым. Воображение дорисовывало картину розариев, разбитых в центральных парках: даже капельки росы блестели на розовых, белых, пунцовых лепестках, завернувшихся, словно пухлые губы красотки.
Но на следующее утро по приезду Артюшенко убедился, что восточные кварталы замусорены, как и ранее, при «бандеровских оккупантах»; да что там говорить – мусорные традиции здешних мест уходили корнями в старые добрые советские времена. Возле мусорных баков за пятиэтажкой, где жил Евгений, как и прежде, был бомжатник. Впрочем, теперь он стал несколько благоустроеннее: недалеко от баков, словно полосатый кот, уткнулся в кучу сухих веток старый матрас.
Артюшенко пошёл на «Восточный базар» за мешками и скотчем. Между бывшим «Абсолютом», а ныне «SPARом» и девятиэтажкой было так загажено, что казалось, мусорники овладели всеми восточными кварталами. Тут и там валялись пластиковые бутылки, коробки из-под сока, обрывки тряпья, пачки от сигарет. Ветер приподнимал раскромсанные целлофановые пакеты, которые пошевеливались, словно медузы в мутном прибое.
Примерно половина модулей на «Восточном базаре» оказались закрытыми. Продавцы с надеждой заглядывали в глаза редким покупателям. Продавец модуля хозяйственных товаров услужливо суетился перед оптовым покупателем – ведь Женя купил двадцать мешков, две ленты скотча и восемь ремней с крючками.
Позабавили Евгения некоторые надписи на магазинах. Над окнами одного из супермаркетов напротив рынка красовалось название «НАРОДНЫЕ ОКНА». Что ж, в народной республике всё должно быть народным: и окна, и двери, и балконы.
Соседи здоровались с Женей приветливо, никакой враждебности он не заметил. Соседи заметно погрустнели. Они тихо разговаривали за столиком, где в былые времена проходили собрания жильцов, приветливо кивали Евгению, интересовались, как ему живётся у «карателей». Артюшенко отвечал уклончиво, памятуя предостережение друга, что в Луганске возродился тридцать седьмой год.
- Ну а у вас тут как жизнь? – с нарочитой небрежностью спросил он.
- Да какая у нас жизнь? Мы не живём, а выживаем, - вздохнула Валентина Сергеевна из шестнадцатой квартиры.
По скупым репликам соседей и по рассказу Валентины Сергеевны о том, как её сын устроился в бригаду по благоустройству города, а им зарплату задержали на три месяца, а потом недоплатили, Женя понял, что в Луганске холодильник всё же победил телевизор. «Конечно, так можно обустроить всё что угодно. И розы насадить, и ёлочки с кипарисами», - думал он, сочувственно кивая в такт рассказу соседки.
Славик и Андрей – бывшие студенты Евгения Александровича – устроили ему встречу со старым другом Артёмом Кругловым. Артюшенко опасался, что Круглов не захочет встретиться с ним – события в Луганске развели их по разные стороны баррикад. Вообще-то говоря, и до этих событий их дружба выглядела весьма странной с точки зрения обывателя, уверенного, что основой дружбы является полное единомыслие друзей. А здесь наблюдалось почти полное разномыслие: Женя был закоренелым евролибералом, Артём же не менее истово исповедовал не просто левые, а левацкие идеи. Образ Че Гевары пламенел в его сердце. В мирное время это не мешало им дружить, но что произойдёт теперь, когда из-за сияющих в непостижимой дали идеалов на улицах Луганска, пролилась кровь – густая, липкая, солёная до горечи?
Всё разрешилось в одно мгновение. Когда Артём в сопровождении Славика и Андрея переступил порог квартиры Евгения, друзья заключили друг друга в объятия: их дружба возвышалась над всеми и всяческими баррикадами.
Круглов удивил Артюшенко своей несгибаемостью. Вихрь событий заставил Артюшенко многое пересмотреть в своих взглядах. Например, он отказался от присущей ему ранее героизации истории: он понял, что доблестные герои минувших веков в большинстве случаев были теми же «ватниками», только иначе вооружёнными. И ещё он понял, что в истории чрезвычайно редко происходит борьба добра со злом. Почти всегда одно зло борется с другим злом, а затем зло, которое победило, объявляет себя добром.
Но Артём по-прежнему жаждал мировой революции и советской власти, которая воссияет из Луганска и Донецка сначала на просторах всех республик бывшего Союза, а затем зальёт ослепительным светом истины всю планету. Впрочем, следовало ли называть это несгибаемостью? Правильнее было назвать это оторванностью от жизни, столь обычной на просторах интеллигентского сознания. Феноменальная память Круглова хранила огромные массивы книжных знаний, и эти глыбы чужих мыслей заслоняли реальность. Сквозь частокол типографских знаков, которыми были испещрены листы белой бумаги, он не мог протиснуться к грубой и неожиданной правде истории.
- Где те, кто стоял у истоков движения? – возмущённо вопрошал Артём Степанович, сверкая глазами ветхозаветного пророка. – Куда делась Жерлицына? Куда-то пропала. А ведь она один из организаторов «Луганской гвардии». Куда все подевались? Одних выгнали, оттеснили, других вообще убили.
Евгений ушам своим не верил – на миг ему показалось, что друг просто прикалывается.
- Артём, а почему тебя это удивляет? - воскликнул он. – Ты ведь блестящий историк. Более того: историк революционного движения. Ты прекрасно знаешь, что всегда, во всех революциях именно так и было.
В ходе застолья вспомнилось, что сегодня вообще-то день независимости Украины.
- Ну так что: «Слава Україні?» - предложил Артюшенко, поднимая фужер с хересом.
- Нет, за Украину пить не буду, - сказал Круглов. – Выпью за встречу.
Женя не возражал – все сдвинули фужеры, звук чоканья получился глухим. Несмотря на неистребимую бездарность украинской власти, Артюшенко оставался патриотом. Но он понимал, что встреча друзей неизмеримо выше любого патриотизма.
Друзья обнялись на прощанье.
- Увидимся ли мы ещё когда-нибудь? – воскликнул Артём.
- Обязательно увидимся, - ответил Евгений. – Но теперь, как говорится в бессмертном фильме: «уж лучше вы к нам».
Следовало поторопиться с отъездом. Телевизор был переложен пенопластом и замотан в одеяло, журнальный столик разобран, стулья поставлены друг на друга. Развёрнутые мешки жадно глотали пачки книг – в их утробу шло всё без разбору: от Фукидида до Кафки.
Из внутреннего ряда нижней полки Артюшенко вынул толстенный фолиант. Это был Гоголь 1900-го года издания. По сути, сюда вместилось полное собрание сочинений. В детстве Женя любил листать пожелтевшие страницы фолианта. Гоголь с «ятями» казался настоящим, а банальные «е» советских изданий воспринимались как подделки. Хороши были чёрно-белые иллюстрации. Особенно нравился Евгению рисунок, изображавший Басаврюка и ведьму, которые требуют, чтобы Петрусь обезглавил брата своей возлюбленной. Нос хищной птицы, выпиравший с худощавого лица ведьмы, пугал Женю и одновременно завлекал: ведь это была всего лишь картинка.
Гоголя Артюшенко положил на дно мешка, завалил новыми изданиями.
Но как быть с чашкой? Евгений твёрдо решил её вывезти: отдраив налёт, он снова будет пить из неё чай. Он замотал чашку в полотенце, положил на дно мешка и завалил одеждой.
Приятели – бывалые путешественники в молодую республику – порекомендовали ему водителя Толика. По их словам, Толик был непревзойдённым асом прохождения блокпостов, таможен и прочих пропускных пунктов, воздвигнутых как «сепарами», так и «укропами» на границах своих владений.
Толик оказался худощавым мужчиной примерно одного с Женей возраста, довольно разговорчивым. Чтобы свести к минимуму прохождение контрольных пунктов, он, по выезду из Луганска, направил свою дребезжащую «Газель» по просёлочным дорогам. Морщины ухабистых дорог пролегли по луганской степи, словно линии судьбы по ладони старухи. Несмотря на то, что последний дождь прошёл с неделю назад, тут и там встречались лужи, иногда довольно глубокие. Артюшенко казалось, что редкая машина бороздит этот просёлок, может, раз в неделю. «Если забуксуем в одной из луж, нас никто не вытащит», - подумалось ему. «Газель» осторожно объезжала рытвины, натужно преодолевала пологие подъёмы, покачивалась на ухабах, и покачивались в кабине водитель и пассажир.
Женя рассеянно слушал рассуждения Толика. Но постепенно он заинтересовался, стал слушать внимательнее: водитель был далеко не глуп.
- Вот недавно был в Киеве, общался с приятелями. А они «майданутые» на всю голову. Стали мне показывать фотографии «Небесной сотни». «Ну что, жалко тебе их?» - спрашивают. «Конечно жалко», - говорю. Молодые ребята, хотели лучшей жизни, искренне хотели. И полегли за неё. «А теперь давайте я вас повезу в Донбасс», - говорю им, - и покажу сотни могил, если не тысячи, в которых лежат люди, которые ничего не хотели. Они не бывали в европах, не хватали звёзд с неба. Они даже лучшей жизни не хотели – их устраивала их жизнь, пусть бедная, убогая. Они хотели просто жить: присматривать стариков, растить детей, на выходных шашлык пожарить где-нибудь на полянке. А их не жалко? А теперь скажите мне, стали вы жить лучше? Сильно сомневаюсь. Так ради чего всё это было? Ради чего погибли и ваши из «Небесной сотни», и наши заскорузлые «даунбасцы»?
«Газель» хрипела и качалась, натужно преодолевая подъёмы.
Всё же они были вознаграждены за преодоление трудностей: лнровскую таможню удалось объехать. Осталась таможня в Горловке, после которой открывался прямой путь на просторы Украины.
Артюшенко опасался, что отожмут телевизор: хороший, большой – LG с двухметровой диагональю, почти новый, купленный как раз перед «русской весной». Вопреки опасениям, телевизор не вызвал особого интереса. Серьёзный молодой ополченец со шкиперской бородкой прицепился к книгам.
- А зачем вам так много книг?
- Я преподаватель.
- Сейчас можно любую информацию найти в интернете.
- Я человек старомодный – люблю работать с книгами.
Ополченец придирчиво оглядывал мешки. Казалось, он не хотел так быстро отпускать выезжающих.
- А у вас книги каких лет издания? – спросил он.
- Да всяких, - небрежно ответил Женя, не подозревая подвоха.
Обладатель шкиперской бородки встрепенулся.
- А вы знаете, что из наших республик запрещено вывозить книги, изданные ранее пятьдесят пятого года? Они уже считаются антикварными. У вас есть такие книги?
- Да нет, у меня в основном последних лет издания, - неуверенно промямлил Артюшенко.
- Столько книг – и ни одной до пятьдесят пятого года? – продолжал наседать ополченец.
Евгений тоже этому не поверил бы. Водитель украдкой делал ему знаки, кивая головой и медленно опуская веки.
- У меня почти все книги двухтысячных годов издания.
Ополченец уловил знаки Толика.
- Почти все?.. Значит есть и более ранних лет? – и заметив замешательство Артюшенко, строго произнёс. – Смотрите, если у вас окажется хотя бы одна книга до пятьдесят пятого года, а вы её не задекларировали, у вас могут быть неприятности, вплоть до конфискации машины.
И Женя поплыл. А вдруг у человека отожмут машину! Из-за какого-то Гоголя…
Чувствуя, что делает что-то не то, Евгений пробормотал:
- Ну есть одна книга дореволюционная.
- Дореволюционная?! – воскликнул шкиперобородый с таким видом, будто обнаружил удостоверение полковника СБУ. – Что за книга?
- Гоголь… тысяча девятисотого года издания.
- Тысяча девятисотого! - с ужасом воскликнул ополченец. – Так, ставьте машину на стоянку, сейчас будем искать.
То ли ретивый таможенник хорошо изображал возмущение, то ли и впрямь думал, что антикварное издание Гоголя, вывезенное в Украину, будет представлять серьёзную угрозу безопасности молодых республик, но «Газель» пришлось поставить на площадку, усыпанную гравием.
Шкипероподобный пошёл за начальством. Толик упрекнул Женю:
- Зачем вы сказали?
- А если б у вас машину отжали?
- Та никто не отжал бы – это всё понты. Не надо было говорить. А теперь застрянем здесь до семи вечера, и придётся здесь заночевать.
Ополченец привёл командира. Офицер тоже был бородатым, но борода не шкиперская и не окладистая. Такая обычно отрастает у геологов за время не слишком долгой экспедиции. Толик, улучив момент, что-то шепнул на ухо офицеру. На фоне строгого ополченца командир выглядел более спокойным и благодушным.
- Ну что, давайте вот этот мешок и вот этот, - небрежно указал он на два мешка скраю.
Женя с Толиком схватили по мешку, с усилием поставили их на гравий.
Ополченец разрезал скотч, склеивавший края мешков. В одном мешке сверху лежали «Улисс» и «Божественная комедия», в другом Батай соседствовал с Фуко.
Офицер молча разглядывал обложки, видимо ожидая, когда не в меру добросовестный подчинённый поймёт бессмысленность разрезания двадцати мешков в поисках одной книги. Через пару минут он не спеша направился к вагончику.
Но псевдошкипер не хотел так быстро сдаваться.
- А здесь что? – указал он на бесформенный мешок у левого края салона «Газели».
- Одежда, - упавшим голосом ответил Артюшенко.
Замешательство пассажира не укрылось от бдительного шкипера.
- Что за одежда? – допытывался он.
- Бэушная, - подсказал Толик.
Женя молча кивнул.
- Бэушная, говорите? – шкиперообразный наслаждался замешательством путешественника. – Тёплые вещи есть?
Артюшенко совсем растерялся. Он не знал, что отвечать. «Нужны тёплые вещи или нет?»
Ополченец правильно понял молчание пассажира.
- А вот мы сейчас посмотрим, - вкрадчиво сказал он и резко полоснул ножом по мешку.
Рубашки, футболки и свитера полезли из мешка, словно пролетарии из переполненного троллейбуса. Вельветовые брюки потянули за собой полотенце. Бросился подхватить! Неудачно! Дёрнул вместо этого! Размоталось!.. Разноцветная чашка звякнула о колючую чешую гравия…
- Эй, Лесник! – окликнул старшого лжешкипер. – Иди-ка сюда!
- Посмотри, что этот препод вёз, - показал шкиперобородый чашку Леснику, когда тот подошёл. – Ах ты умник грёбаный! – накинулся он на Евгения. – Мразь укропская! Ну что, как там в вашем анекдоте: «Ти, москалику, вже прийшов». Ты уже приехал, паскуда!
Когда начиналась война, Артюшенко, как и почти все окружающие, не верил, что это всерьёз. Не верилось, что при торжестве цивилизации, после столь длительного мира в его стране, в его городе люди смогут убивать друг друга. Когда это стало происходить, он не верил, что подобное может случиться с ним, с его друзьями и близкими. Взрывы всё приближались, мины взрывались на соседних улицах, соседи рассказывали о погибших, но это всё были люди незнакомые или дальние знакомые. Конечно, это было вопиюще, но ведь его – Евгения Александровича Артюшенко – это никак, ну никак не может коснуться. И вот Евгений Александрович смотрел в светло-голубые глаза ополченца и видел в них не просто ненависть – видел готовность убить.
Лесник медленно, словно нехотя поворачивал чашку, рассматривая со всех сторон толпу, заполонившую площадь.
- А вы были на майдане? – спросил он. В голосе его сквозило любопытство.
- Да нет, я просто был в Киеве, - промямлил Артюшенко, - меня приятель повёл. Это просто сувенир, там все покупали.
- Но этот сувенир вам дорог? – с усмешкой спросил Лесник. – Вы его через блокпосты везёте. Рискуете, можно сказать.
- Да нет, ради бога, возьмите себе…
Эта неожиданная шутка, невесть как сорвавшаяся с языка, развеселила таможенников. Они засмеялись: Лесник весело, шкиперобородый злорадно.
- У меня дома любимая чашка разбилась, - нашёлся Женя, - так я эту решил прихватить.
- Ну что, Тамбов, - обратился Лесник к рядовому, - конфискуем чашку? Нужна тебе такая чашка?
- И нахрен не нужна.
- А что, чашка симпатичная. Вон смотри как бандерлоги беснуются.
- Ага, наелись американских печенек, думают им теперь гейропских пряников дадут.
- Может отдадим Камазу? Пусть ребята в стрельбе потренируются.
- Да я сам бы сейчас в эту чашку попал, а заодно и в книголюба.
- А на лету сбить слабо? – Лесник дёрнул рукой вверх, словно собираясь подбросить чашку.
Тамбов склонил голову к плечу:
- Не уверен, но попробовать можно.
- Раз не уверен, не обгоняй, - наставительно сказал лесник и вернул чашку Жене. – Ладно, держите. И дуйте отсюда побыстрее.
Евгений кинулся заматывать злосчастную чашку в полотенце, хотя теперь это было уже ни к чему, а лесник знаком показал Толику следовать за ним. Они уединились в промежутке между ларьками. И женя краем глаза заметил как водитель полез в карман. Тамбов укоризненно посмотрел на Лесника: нет в нём должной бдительности, непримиримости к врагам донбасского народа. А может просто осерчал, что мзда за чашку и Гоголя досталась начальнику.
Долго ехали молча. Затем, уже когда прошли украинские КПП, Толик пробурчал:
- Ну ты и фрукт оказался. Серьёзнее нужно быть с такими вещами. Нахрена мне такая подстава! Знал бы, что ты за тип, не повёз бы.
Словоохотливость его иссякла. Артюшенко также не был расположен к беседе.
«Струсил, сдрейфил! Меня приятель повёл… там все покупали… Жалкое ничтожество! Мог только в аудитории пыжиться: «я за Майдан», «Революция достоинства»… Да, это тебе не с Ревутой за бутылкой базикать о конфликте цивилизаций. А бросить бы им в лицо: «Да, был, шины палил. Слава Украине!»».
И воображение уже рисовало Евгению сцену его героической гибели за киосками. Как большинство донбассцев, Артюшенко был широк в мечтах, но узок в делах. Да и потом, ведь это было бы неправдой: он действительно прошёлся по Майдану как любопытствующий турист.
Впрочем, был ли он среди ликующих энтузиастов, изображённых на чашке, палил ли он шины, получал ли дубинкой по голове, - суть была вовсе не в этом. Всё потускнело, и в Киеве, и в Луганске.
«Не хочешь к самому себе применить то, что говорил Круглову? – думал Женя под однообразный гул мотора. – Почему тебя это удивляет? Во всех революциях именно так и было. И дегероизировать следует не только войны, но и революции. Пламенные революционеры минувших эпох – те же самые «ватные» демагоги, только иначе одетые».
Дома Евгений долго отдраивал содой чайный налёт. Он вертел чашку из стороны в сторону; взгляд выхватывал то одну, то другую фигуру, запечатлённую в революционном порыве. Где они теперь – эти люди? Как сложились их судьбы? Получает ли пенсию старик в кепке? Чей флаг вздымает мозолистой рукой парень в красной куртке? Да живы ли они вообще?.. Что это было: подвиг или сон? Любовный порыв или прыжок в смерть?
Артюшенко прихлёбывал свежезаваренный чай. Напиток, приготовленный из листьев кустарника, выращенного на далёком Цейлоне, был густым и тёрпким.
Александр Ерёменко, специально для Ostrovok
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
 Версия для печати
Версия для печати