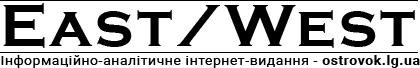Украина (с Донбассом) и капитализм: неудачный роман
(Рецензия на книгу: 20 років капіталізму в Україні. Історія однієї ілюзії / За редакцією Кирила Ткаченка. – К.: Видавництво ТОВ «АРТ КНИГА», 2015 – 268 с.)
Рецензируемая книга резко отличается от основного наполнения нынешних книжных магазинов. В какой-то мере она – явление уникальное и, хотелось бы думать, прецедентное. Редактор издания Кирилл Ткаченко в качестве своей цели ставит рассмотрение опыта становления капитализма в Украине. Отсюда и название книги. 20 лет не предполагают привязку к каким-то конкретным датам. «Прибегая к аналогиям, период 1989 – 2013 годов можно назвать «длинным двадцатилетием» внедрения капиталистических отношений» (с. 23).
Редактор книги фиксирует несколько парадоксов рассматриваемой проблематики. С одной стороны, в Украине, которая просто больна историческим мышлением, именно этот период её новейшей истории является белым пятном, своеобразным провалом в коллективной памяти. Неудачный опыт масс людей, которые своими собственными руками надели себе на шею хомут классовой эксплуатации, порождает вытеснение прошлого в подсознание, а иногда и амнезию. «Этот травматический диссонанс создает условия, при которых современность фигурирует как своего рода белое пятно – период, в котором мы живем, стал объектом, который последовательно избегает рационального осмысления. Предметом забвения, настоящего перманентного вытеснения становится наша современность. Амнезия оказывается способом анестезии, а симптоматическая зацикленность общественных дискуссий на исторических темах восьмидесятилетней – шестидесятилетней давности выполняет функцию покрывающего воспоминания. <…> Несмотря на зацикленность отечественных дискуссий на исторических темах, период последних двадцати пяти лет остается чуть ли не наименее исследованным. Конечно, присущий этим дискуссиям радикальный исторический редукционизм, то есть склонность объяснять любые проблемы современного общества ссылками на прошлое, еще не означает, что само прошлое становится вследствие этого предметом пристального внимания – ведь речь идет о слепых клише, сила которых объясняется в первую очередь ихним безапелляционным обвинительным тоном и опирается не так на научные объяснения, как на зазеркальную мистику, которая обращает нашу современность на царство, в котором господствуют мертвецы, а наших современников – на соучастников преступлений, совершенных задолго до их появления на свет» (с. 14 – 15). Второй парадокс состоит в том, что современность рассматривают не через призму главных категорий, которые только и могли бы её объяснить. Современный дискурс в этом отношении – серия интеллектуальных подмен. «…Установление капиталистических отношений отразилось на украинском обществе больше, чем, скажем, строительство национального государства или развитие демократических институтов (центральные легитимационные мотивы наличных исторических изменений, вместе с «внедрением рыночных отношений»). Одно из самых важных заданий этого сборника как раз и состоит в том, чтобы показать, насколько зависимым оказывается существование независимой Украины от проекта реставрации капитализма и до какой меры развитие капитализма деформирует «демократические процессы»» (с. 10).
В книги статьи сгруппированы в три раздела – «Крах светлого прошлого», «Аспекты трансформации» и «Перспективы».
Все тексты первого раздела написаны иностранцами – Вадим Борисов из России, Саймон Кларк и Дэвид Лейн из Великобритании, Дэниел Валковиц из США. Первые два автора и Дэниел Валковиц являются известными в мире исследователями рабочего движения. Их статьи в этом сборнике переносят нас на шахты и площади Донецка в начало 1990-х годов. Вадим Борисов был непосредственным наблюдателем шахтерской забастовки 1993 г. Он показывает, что забастовка возникла стихийно на шахте им. Засядько. Поводом для неё стало резкое повышение цен на продовольственные товары. Однако, всплеском активности рабочих воспользовались их работодатели. Для Ефима Звягильского она стала своеобразным подъёмным механизмом в высшие сферы государственного управления. Вадим Борисов подчеркивает, что «…люди боролись по-честному, сутками не спали, пребывали в страшном нервном напряжении, подрывали своё здоровье. Но работодатели и различные политические силы мастерски использовали этот социальный взрыв для отстаивания собственных интересов и изменения баланса сил в свою пользу» (с. 26). Собственно, правящий класс Украины, тогда находившийся еще в состоянии становления, нашел механизм, который он будет использовать всё время. Майданы – из этой серии.
Дэниел Валковиц, опираясь на собственные эмпирические исследования в Донецке показывает, как менялась идентичность шахтеров и как эти изменения привели её к краху. Для шахтерского движения было присуще внутреннее противоречие: его участники стремились к социальной справедливости, но путем к ней видели свободный рынок. Тем самым они разрушали свое привилегированное положение в экономической системе. Огромную роль здесь сыграло то обстоятельство, что «…их воображение подпитывали многочисленные новые колонизаторы – от американских миссионеров до девелоперов в сфере экономики, а также американизированные образы того, что называется «нормальной жизнью» - от Диснейленда до Питтсбурга» (с. 37). Бывшие члены стачкомов и советские профсоюзные деятели начали ориентироваться на модель профсоюза, которую представляет американский соглашательский тред-юнион АФТ-КПП. При этом реципиенты американских образцов воспринимали их своеобразно. Кооперативы, которые в США основываются на социалистических началах, превращались в очаги самого дикого капитализма (с. 52). Профсоюзные лидеры не понимали, что линия развития страны, которой они оказывали поддержку, ведет к деиндустриализации и к упадку самих профсоюзов. Не случайно в США в 1930 г. в профсоюзах состояли 35% наёмных работников, а сейчас – меньше 12% (с. 34). В итоге многие профсоюзные лидеры Украины проделали путь от защитников интересов людей труда к владельцам пивных заведений и магазинов. Профсоюзное движение шахтеров поэтому было не просто разбито правящим классом, но и распалось по внутренним причинам, потеряв свою идентичность.
Статья Дэвида Лейна носит обобщающий теоретический характер. Он пытается объяснить распад СССР и дальнейшее развитие Украины сдвигами в социальной структуре общества. Структурные сдвиги за период существования СССР привели к формированию социальных групп, которые стали носителями идей реформирования общества. Он пишет: «…Во время Перестройки роль восходящей социальной группы приняли на себя занятые умственным трудом профессионалы – именно они сформировали запрос на политику Горбачева и больше всего симпатизировали ей» (с. 60). Британский социолог считает, что даже КПСС превратилась в выразительницу интересов советского среднего класса, а «…руководящие посты все чаще доставались людям с высшим образованием, чутким к потребностям и требованиям той части общества, к которой принадлежали они сами. Значительный сегмент административного класса был склонным к реформаторским идеям, а при определенных условиях - даже готовым принять идею радикальной политической и экономической трансформации общества» (с. 61). Выглядит это просто как панегирик советской партийной бюрократии и не даёт ответа на вопрос, почему же вся Перестройка пошла наперекосяк и закончилась катастрофой социализма.
Дэвид Лейн придерживается методологической позиции классового анализа общества. Подводя итоги Перестройки и капиталистической трансформации в Украине, он пишет: «Наибольшей выгодой эти процессы обернулись для нового класса собственников, тогда как для рабочего класса, в чью собственность перешла разве что их рабочая сила, эти процессы обернулись существенными социально-экономическими утратами» (с. 70).
Статья Дэвида Лейна заканчивается очень интересным пассажем о гражданском обществе. Он убедительно показывает, что большинство организаций гражданского общества являются прокапиталистическими. Они получают поддержку от транснациональной буржуазии и являются одним из инструментов демонтажа государства, как органа обеспечения общего блага. В бывших республиках СССР гражданское общество стимулируется извне. «Создание структур гражданского общества «сверху» трудно назвать успешным: они так и не прижились на местной почве и остаются нежизнеспособными без донорской помощи. Более того, структуры гражданского общества нередко становятся участниками процесса неолиберализации – ослабления государственных институций и замены их разнообразными благотворительными организациями, добровольными объединениями, частными службами» (с. 78 -79).
Второй раздел книги «Аспекты трансформации» открывается статьей Кирилла Ткаченко «История одной странной победы или Кто выиграл вследствие рыночных преобразований?» Сразу скажу, что содержание статьи шире её названия. А оно возникло из поддержки идеи Дэвида Лейна о том, что движителем Перестройки был советский средний класс. Кирилл Ткаченко пишет: «…Волна неолиберальной (контр-)революции, которая в конце восьмидесятых годов докатилась до Советского Союза, в итоге ознаменовала победу неудовлетворенных эрозией своих социальных позиций фракций (бывшего) советского среднего класса – правда, победу настолько пиррову, что социально-экономические потери преобладающей части этого класса оказались большими за обретения» (с. 85). В безусловном выигрыше оказался формирующийся класс украинских капиталистов. Возник он, правда, в результате паразитирования на катастрофе социализма. Его усилиями за первую половину 1990-х гг. из Украины было вывезено от 25 до 50 млрд. долл. (с. 83). Эти средства просто изымались у населения, падение доходов которого в это время было значительно большим, чем падение экономики. Вот и спорь после этого с Прудоном, что собственность – это кража! Пятно социального уродства так и осталось на теле этой социальной группы.
Формирующийся капиталистический класс использовал в своих интересах украинский национальный проект. «Шизофреничность украинской ситуации (до определенной черты управляемая) может быть объяснена, в частности, странной связанностью обеих проектов – украинского национального проекта и проекта реставрации капитализма. Речь вовсе не идет о какой-то исторической необходимости, но наличная историческая генеза состоит в том, что проект реставрации капитализма предполагал создание независимого украинского государства и использовал этот процесс как источник своей легитимности. Непристойный выверт украинской власти частично лежит на поверхности и как раз и состоит в привязке «украинизации» к «успехам» капиталистического проекта» (с. 109).
Кирилл Ткаченко сосредотачивается на трех аспектах капиталистической трансформации в Украине: дифференциации по уровню образования, вертикальным пространственным расслоением и горизонтальной пространственной дифференциацией. Во всех случаях он демонстрирует блестящие примеры диалектического мышления. Так, он показывает, что увеличение числа университетов и количества студентов шло одновременно с падением экономики. Это привело, с одной стороны, к девальвации ценности диплома, но, с другой стороны, превратило эти дипломы в пропуска на относительно благополучный рынок труда. Развитие пространственной структуры Украины дало жесткую иерархию поселенческой структуры и увеличение дифференциации между регионами. «Исторический парадокс состоит в том, что накануне провозглашения независимости Украина была гомогеннее не только в экономическом, но и в языковом плане; наиболее масштабными языковыми процессами, которые происходили после провозглашения независимости, является не так украинизация или русификация в масштабах всей страны, как расхождение языковых траекторий регионов, то есть гомогенизация украиноязычного Запада и русскоязычного Востока страны» (с. 113).
Статья Игоря Самохина «Потеря научного потенциала Украины» демонстрирует парадоксальность ситуации в исследуемой области. Все годы независимости в Украине росло число академических институтов и университетов, численность студентов и аспирантов, а также научных публикаций ученых, но одновременно с этим падала «наукоемкость» экономики (с 2,5% ВВП в 1991 г. до 0,86% в 2010 г.) (с. 116). В нашей стране так и не ликвидировано разделение труда между университетами и академическими учреждениями. Только вторые считаются собственно исследовательскими структурами. Автор вполне справедливо делает вывод относительно вала имитативных, как бы научных, усилий в нашей стране: «Полусырьевая экономика не нуждается в инновациях» (с. 116).
Татьяна Журженко в статье «Нация, гендер и класс в демографической политике» показывает, что правящий класс использует дискурс демографического кризиса в манипулятивных целях. Под этот аккомпанемент в стране сложился консервативный консенсус, утверждающий традиционные гендерные роли, который в первую очередь поддерживают националистические партии и церкви, но к которому присоединились центристы и даже традиционные левые. Дискурс демографического кризиса сочетается с дискурсом «ответственного» отцовства среднего класса. Исследовательница пишет: «Нормативные аргументы относительно «отцовства среднего класса» распространяются через СМИ, рекламу и другие формы культурного производства, превращая уход за детьми в своеобразный «потребительский проект»» (с. 146). Гендерного равенства политика, ориентированная на такие ориентиры, обеспечить не может: «Разница между зарплатой мужчин и женщин в Украине составляет почти 70%, к тому же женщины составляют 68% зарегистрированных безработных» (с. 151).
Яков Яковенко в статье «Кладбище под застройку: иструментализация истории на примере Голодомора 1932 – 1933 годов» исследует политику памяти правящего класса нашей страны. Он показывает, что «…господствующий дискурс Голодомора с самого начала служил инструментом политической и идеологической борьбы, рождался в этой борьбе, должен был каким-то образом объяснить, почему этатизм советский – это плохо, а этатизм новой республики – это что-то прямо ему противоположное» (с.161). При этом «…сама дискурсивная постановка вопроса так заставляет выстроить виновных в трагедии – чужой, неукраинский элемент – именно по национальному критерию» (с. 165).
Несколько диссонирует с другими текстами раздела статья Дениса Горбача «О трех мирах, соревновании жертв и политэкономии». Пафос её обусловлен спором с традиционными левыми (КПУ, СПУ, ПСПУ) относительно их катастрофических оценок положения в Украине и Украины в мире. Автор начинает с утверждения: «Одним из последствий систематического угнетения марксистской мысли в СССР стала интеллектуальная беспомощность постсоветских левых после распада этого государства» (с. 179).
Денис Горбач отбрасывает утверждения, что Украина превратилась в колониальную страну, а её правящий класс руководствуется идеологией неолиберализма. Первый тезис он опровергает примерами покупки украинскими компаниями предприятий не только в Гане или Грузии, но и в Великобритании, Италии или Венгрии. Второй тезис он ставит под сомнение с оглядкой на то, что в Украине действует еще советский КЗоТ 1971 г., а часть ВВП, которая идет на заработную плату, возросла за последние 10 лет с 35% до 42%. Такой же уровень фиксируется в России, Беларуси, Чехии и Италии. В Китае же он составляет 11 – 13% ВВП (с. 199). Другой ряд данных, которыми оперирует автор, - это индекс Джинни, измеряющий неравномерность распределения доходов в стране. По расчетам Мирового банка в Украине в 1987 – 1990 гг. его показатель составлял 0, 24, в 1993 – 1994 гг. он достиг 0,47, а потом начал снижаться, достигнув в 2009 г показателя 0,26. В России этот показатель застрял на уровне 0,42; в Молдове – 0,34; в Казахстане – 0,29 (с. 201).
Название третьего раздела «Перспективы» явно не соответствует содержанию. Собственно, никакого прогноза развития страны там не содержится. Статья румынского социолога Михая Варги посвящена профсоюзному движению в Украине. Он убедительно показывает, что бессилие и соглашательство профсоюзного движения в нашей стране в первую очередь обусловлено политикой Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Это самое большое профсоюзное объединение было превращено его руководством в имущественную корпорацию, что обусловило все остальное.
Денис Горбач в статье «Отношения труда и капитала в Украине: две реальности» показывает, что профсоюзы в нашей стране не выходят за пределы требований европейских социал-демократов. За годы независимости они утратили свое влияние. Сейчас рабочие практически не организованы, а правящий класс сплочен: «…если в профсоюзах состоит только 20% наёмных трудящихся страны, то в объединениях работодателей – 75% представителей соответствующего социального класса» (с. 239).
Замыкает книгу статья Владимира Чемериса «Система и революция. Анализ социальных процессов в Украине», которая целиком не соответствует духу сборника. Методологически это бессильная компиляция конспектов по историческому материализму, теории Льва Гумилева и статистических таблиц. Автор делает выводы, с которыми трудно не согласиться: «Буржуазная оппозиция не способна предложить украинцам какие-то социальные проекты или программы, кроме банального замеен президента Януковича на президента-оппозиционера» (с. 267). Но это - концептуализация здравого смысла, которая никак не вытекает из предыдущих теоретических положений.
В целом рецензируемый сборник статей является безусловным событием в интеллектуальной жизни Украины. Кроме всего прочего, он демонстрирует накопленный научный потенциал отечественной социологии, собранный нею огромный объем данных о нашем обществе.
Но на этом поставить точку нельзя. Левые интеллектуалы демонстрируют слабость своих методологических позиций. В споре о месте Украины в мировой капиталистической системе упоминается теория «мир-системы»Иммануила Валлерстайна, но упоминается явно из вторых рук. Чтобы определить положение той или иной страны в мировой капиталистической системе нужно учитывать сумму факторов, а не полагаться на отдельные примеры. В этом случае есть все основания говорить о движении Украины с полупериферии на периферию.
Книга была подготовлена к печати в 2013 г. Последующие события показали меру зависимости разных фракций украинского правящего класса от различных иностранных центров силы. Жаль, что авторы не скорректировали свои выводы так сказать «в связи с открывшимися обстоятельствами».
Отсутствие четкой методологической перспективы анализа сказывается в возможностях предвидения тенденций развития страны. Поэтому авторы ограничиваются, скажу так, голословными восклицаниями. Так, Кирилл Ткаченко пишет: «Случай современной Украины как нарочно создан, чтобы показать, что преодоление любых форм социального дискомфорта предполагает преодоление капитализма» (с. 113). У Дениса Горбача слышим вечную песнь леваков-троцкистов: «Извечный вопрос: что же в таком случае делать левым? То, что им «завещала природа»: всячески пропагандировать «социальную вражду», «раскачивать лодку» и «дестабилизировать ситуацию». Раздувать низовые конфликты на предприятиях и не только, подталкивать трудящихся к все более амбициозных и радикальных требований, в целом разжигать по возможности «боевые» настроения, ставя тем самым правящий класс в ситуацию, когда он не может пойти на уступки, оставшись собой, но не может и игнорировать требования» (с. 207). Так и слышится голос Сергея Нечаева: «Любить народ – это водить его под картечь».
Здесь в своем радикализме новые левые выглядят не такими уж и новыми. Они еще даже не осмыслили экологические ограничения на социальные действия, которые возникли в настоящее время. Старые левые на их предложения очевидно воскликнут: «Безответственно!». И в этом аспекте их критика будет справедливой. Но хорошо, что в интеллектуальном пространстве Украины обозначилась левая позиция, дающая возможность новых поворотов в дискуссии о перспективах развития нашей страны.
Илья Кононов, доктор социологических наук, профессор, специально для «Ostrovok»
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
 Версия для печати
Версия для печати