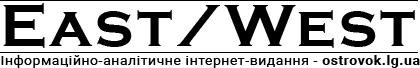
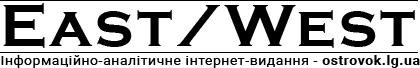
«Обжегшийся ребенок боится огня», — сказал кто-то из великих. Трактуя контекст буквально, добавим: если выживает. Ожоговые болезни существуют, видимо, со времен Прометея. И столько же веков человечество бьется в попытках победить их, изобретая всевозможные заменители обгоревшей мертвой кожи. Свой уникальный рецепт более 20 лет искали тернопольские медики. Нашли. И доказали, что технические решения мирового масштаба могут быть найдены не только в суперсовременных лабораториях, оборудованных самой «навороченной» техникой, но и в условиях, приближенных к «боевым»: в стенах обычного ожогового отделения рядовой городской больницы и периферийного вуза.
Впрочем, ксенотрансплантаты из свиной кожи — далеко не единственная разработка тернопольских ученых...
Автор уникального изобретения — Владимир Бигуняк, проректор Тернопольской медицинской академии им. И. Горбачевского, доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии-ортопедии с курсом комбустиологии, ученый и практик, известный далеко за пределами Тернополя. Проблему, решению которой он посвятил значительный отрезок своей жизни, сама жизнь и обозначила. Есть расхожая фраза: чужая голова не болит. Владимир Васильевич с этим утверждением категорически не согласен. Заведующий ожоговым отделением Тернопольской первой городской больницы почти физически ощущал нестерпимую боль своих пациентов, переживал вместе с ними ежедневные перевязки, тяжелые последствия наркоза, частые осложнения. И — думал, анализировал все те варианты, которые уже существовали в мировой практике. Серьезную проблему представляло заживление глубоких ожогов, при которых неминуемы потери жидкости, белков, электролитов, фатально неизбежна угроза инфицирования раны. Результат — тяжелое истощение организма больного, а если поражено более 30—40% кожи, то и смерть.
В медицинской практике использовались всевозможные временные заменители кожи, преимущественно искусственные, из синтетических материалов. Сложность заключалась в том, что ими можно закрыть рану только на 3—4 дня. Заживают же ожоговые поражения долго (иногда — несколько месяцев), заменители и другие необходимые в таких случаях препараты стоят недешево, а финансовое состояние нашей медицины, что ни для кого не секрет, к совершенству пока, мягко говоря, не приближается. Но главное даже не в экономическом аспекте проблемы. Гораздо страшнее неизбежные перевязки, наркоз, физические страдания измученных людей... Словом, нужна была разумная альтернатива.
— В мире существует много методик, — рассказывает Владимир Бигуняк. — В Германии, Франции, США изготавливают около 20 видов заменителей кожи. Каждый из них мы изучили, опробовали на практике. Пытались даже использовать кожу умерших. В конце концов остановились на методе словацких коллег, которые накладывают на ожоговые раны свиную кожу, по своим свойствам наиболее близкую к человеческой. Правда, их попытки желаемого эффекта не давали. Дело в том, что словацкие врачи, как и мы на первых порах, накладывали кожу на раны свежевысушенной, без специальной обработки. Мы попытались разработать такую технологию, которая позволяла бы максимально сохранять естественные биологические свойства консервированного кожного субстрата.
Здесь нужно рассказать о сути методики тернопольских медиков. Они предложили консервировать свиную кожу в жидком азоте, используя криопротекторы — вещества, помогающие клетке выжить, не нарушая ее целостности. Технологический процесс изготовления ксенодермотрансплантатов совсем не прост: от начала производства до получения готовой продукции проходит не менее двух месяцев. Сначала происходит забор сырья, затем оно хранится в специальных растворах, консервируется в жидком азоте. И только после этого при температуре –80 °С и очень низком давлении высушивается. Внешне готовый трансплантат напоминает... обычные чипсы. Сегодня эта технология используется во многих ожоговых центрах, в том числе и в Луганске.
А стоит ли «овчинка» выделки?
Практика применения ксенотрансплантатов дает однозначный ответ на этот вопрос: благодаря их использованию в Украине на 30% снизилась смертность тяжелых ожоговых больных. При поверхностных ожогах рану закрывают трансплантатом на 12—16 дней — до полного заживления. После этого лоскуты ксеногенной кожи самопроизвольно отторгаются. Автоматически отпадает и необходимость болезненных перевязок, значительно сокращается срок пребывания пациентов в стационаре.
Однако наибольшую сложность представляло все-таки заживление глубоких и обширных ожогов. Украинские комбустиологи предложили принципиально новую методику их лечения.
— После такого ожога, — объясняет Владимир Васильевич, — еще несколько часов в ране сохраняется температура свыше 800С. Потому кожа и более глубокие ткани продолжают отмирать, организм отравляется веществами, выделяющимися из погибших клеток. На второй-третий день после травмы проводится ранняя некрэктомия, то есть хирургическим путем удаляются омертвевшие ткани. Мы предложили затем закрывать очищенную раневую поверхность не кожей больного, а на 2-3 дня ксенотрансплантатами, чтобы организм адаптировался к травме и человек пережил ее. После этого заменители снимаются с ран, дополнительно удаляются остатки некротизированной ткани, еще уцелевшие на пораженных участках. И только потом они закрываются аутотрансплантатами — тонкими лоскутами кожи больного, взятыми с других участков тела. Такая методика уменьшает процент осложнений и кровотечений при лечении ожоговых больных.
И еще один аспект: на обожженных участках часто появляются безобразные рубцы и рубцовые поля, приводящие к деформации суставов, нарушениям кровообращения, ограничению подвижности. При использовании ксенодермотрансплантатов количество таких осложнений существенно уменьшается, а зачастую их удается избежать вовсе.
Можно еще долго говорить о преимуществах предложенной Бигуняком и его коллегами технологии. За разработку и внедрение новых методов диагностики и раннего лечения глубоких ожогов и их последствий Владимир Бигуняк и другие ученые-комбустиологи из Киева, Тернополя, Хмельницкого, Донецка и Харькова удостоены Государственной премии Украины в области науки и техники.
Когда в Тернополе начали изготавливать заменители кожи, решено было создать банк лиофилизационных ксенотрансплантатов. Для этого, конечно, были необходимы средства. Инновационный фонд Украины выделил тернопольцам беспроцентный кредит. Он ушел на закупку современного оборудования словацкого производства. При Тернопольской медакадемии была создана лаборатория криовакуумной консервации биологических субстратов. И сегодня врачи практически каждого ожогового отделения любой украинской больницы используют в своей работе заменители кожи, изготовленные в Тернополе. Здесь действует единственное не только в Украине, но и на всей территории СНГ предприятие, где производят ксенодермотрансплантаты. Этими разработками живо интересуются в России, Польше, Узбекистане, Молдове, Германии... Однако, по мнению Владимира Бигуняка, пока еще уникальные биопрепараты используются только процентов на сорок. Причина банальна — крайняя ограниченность бюджетного финансирования отечественной медицины.
Тернопольские ученые и их коллеги из Харькова и Донецка рассчитывают на изменение ситуации, а потому продолжают совершенствовать технологию лечения ожоговых больных.
— Когда рана закрыта заменителем, — рассказывает Владимир Васильевич, — в питательных средах, на так называемой основе, можно выращивать клетки кожи больного, чтобы в дальнейшем закрывать ими его же раны. Но такая технология очень дорога. Сейчас мы внедряем собственные разработки, пытаемся за основу брать наши заменители кожи. И уже на них, используя специальные медикаментозные добавки, выращивать аутотрансплантаты. Это было бы в сотни раз дешевле. Я уверен: мы достигнем успеха.
Как видно из вышесказанного, несмотря на неизбежно возникающие финансовые, сырьевые и другие проблемы, судьба этой разработки тернопольских медиков в плане ее практической реализации сложилась достаточно удачно. А вот другие перспективные новшества пока еще ждут своего «звездного часа».
Canimus surdis, или Поем глухим?
Уже неоднократно говорилось о том, что именно университетской науке принадлежит будущее. Достижения тернопольских ученых этот тезис подтверждают. Достаточно обратиться к цифрам. За три года (2001—2003) в Укрпатент было направлено 190 заявок на изобретения. Только в прошлом году ученые академии получили 85 патентов. Рейтинговый показатель в сфере изобретательства из расчета на 100 работников за последние два года превысил 25, то есть каждый четвертый (!) преподаватель академии является изобретателем.
Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров. В рамках государственной программы здесь был разработан аппарат для экстракорпорального (вне организма) ультрафиолетового облучения крови («ЭУФОК»). Разрешен к серийному производству в Украине, но не выпускается из-за отсутствия средств. Лишь на Белгород-Днестровском заводе изготавливаются одноразовые кюветы для облучения крови, устанавливаемые на аналогичных российских аппаратах.
Не менее печальна судьба другой разработки — аппарата для фотооксигенации (насыщения кислородом под действием света) крови и ее препаратов. В изобретении впервые в медицинской практике использован процесс фотогидролиза молекул воды и фотополимеризации кислорода для оптимизации защитных сил больного организма. Как и «ЭУФОК», аппарат «Квант-01» разрабатывался в рамках государственной программы. Изобретение было зарегистрировано еще в конце 80-х годов минувшего столетия; тогда тернопольские медики были первыми. А теперь подобные аппараты выпускают российские предприятия, массово наводняя наш рынок своей продукцией, несмотря на отсутствие государственной регистрации в Минздраве Украины.
Особое внимание ученых-медиков привлекают вопросы экологической оптимизации окружающей среды в аспекте их взаимосвязи с проблемами здравоохранения. К примеру, на кафедре микробиологии разработан высокоточный способ определения бактериального загрязнения питьевой воды, а в сотрудничестве с кафедрой медицины катастроф предложена эффективная очистительная система на основе минерала цеолита. Об актуальности «водяной» проблемы для Украины, думается, говорить лишний раз не стоит.
Несколько оригинальных методик разработано на кафедре онкологии. Они направлены на повышение иммунной сопротивляемости организма путем фотоактивации элементов кожного покрова. Одна из перспективных идей тернопольских медиков — принципиально новый способ диагностики опухолевого процесса, основанный на феномене тушения люминесценции (от лат. lumen — свет, escent — суффикс, обозначающий слабое действие) ряда объектов кровью больных. По мнению ученых, наиболее подходящим тест-объектом такой диагностики является естественный янтарь. Способ уникален еще и тем, что на изготовление тест-объекта идут отходы янтарного производства, в буквальном смысле слова янтарная пыль.
Подобные примеры, конечно же, не единичны. Как уже было сказано, основная проблема заключается в широком практическом внедрении безусловно прогрессивных приборов и технологий. Пытаясь посильно содействовать ее решению, в Тернопольской академии впервые среди медицинских учреждений стран СНГ реализовали интересную организационную идею: на протяжении двух последних лет в вузе успешно работает комиссия по новой медицинской технике и перспективным медицинским технологиям, возглавляемая руководителем патентно-лицензионного отдела, доцентом, заслуженным изобретателем Украины Василием Демьяненко.
— Результатом нашей работы, — рассказывает Василий Васильевич, — стали утвержденные ученым советом вуза инструкции по использованию новых авторских методик и приборов. Это позволит избежать возможных сложностей правового порядка, нередко возникающих при внедрении оригинальных, еще широко не применяемых методов и способов лечения.
На ученом совете, состоявшемся в медакадемии в конце февраля, уже не впервые говорилось о путях стимулирования инновационной реализации разработанных проектов. Одной из определенных задач стало повышение уровня знаний изобретателей по актуальным вопросам методологии и практики современного менеджмента, освоение законов рынка объектов интеллектуальной собственности.
Можно ли подобными мерами кардинально решить наболевшую проблему не всегда взаимной любви науки и практики? Ответ очевиден. Этап практического воплощения наиболее оригинальных и конкурентоспособных изобретений путем их инновационной реализации остается пока самым слабым звеном непростых научно-производственных взаимоотношений. Вот и получается, что поют-то в Тернополе хорошо, да только никто не слышит.
Другими словами, налицо объективно существующий факт — высокий научный потенциал провинциальных ученых-медиков. Есть и другой факт — постоянно декларируемая государством безальтернативность инновационного пути развития страны. Наконец, факт третий: до тех пор, пока не будут отработаны соответствующие экономические и правовые механизмы, этот путь останется непройденным, а все декларации будут лишь привычными красивыми словами.
И возникает вопрос: почему функции менеджера, посредника, «толкача» не могут хотя бы частично взять на себя государственные учреждения, к примеру, то же Министерство здравоохранения? Кому от этого станет хуже?
А тревожные симптомы между тем наталкивают на совсем не утешительный вывод: если общество не готово «переварить» собственные интеллектуальные усилия, то либо необходимы срочные изменения, либо процесс разрыва станет необратимым.
Марина Савинова, г.Тернополь