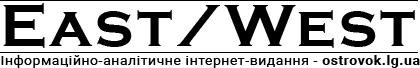Белинский. Что в имени его для нас? (К 210-летию со дня рождения)
Опубликовано: 10.06.2021. 19:58

11 июня 2021года исполняется 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского. Канонизированный в советское время как «предшественник социал-демократов», сейчас он очень часто рассматривается в неком скандальном ключе. В Украине устойчивой формой мысли стало восприятие русского критика как украинофоба. В современной России модные литераторы его тоже не жалуют. Но будет ли наше понимание самих себя полным без Белинского, которого читали с восторгом во всей Российской империи, у которого почитателей в Харькове было не меньше, если не больше, чем в Петербурге? Попытаемся с этим разобраться.
Белинский в идейной истории Российской империи и в современных идеологических спорах
Размышляя о становлении научного понимания общества в Российской империи, мы неизбежно должны начать с В. Г. Белинского. Естественно, он не мог стать его единственным творцом. Вполне справедливо написал А. А. Ермичев: «Сознательная русская мысль никогда не могла начаться только в голове одного человека. Она родилась в интеллектуальном пространстве 30-40-х гг. XIX в., созданном, по меньшей мере, и, в первую очередь, усилиями любомудров, Чаадаева, славянофилов и западников (а в их числе и Белинского). В данном случае было бы вернее сказать, что перечисленные философские понятия и оппозиции Белинский сделал узнаваемыми русским читателем, доступным его слуху и пониманию»[1]. Тем самым именно Белинский стал инструментом нового самоописания общества в понимании Н. Лумана. Правда, на этом примере видно, что подобные самоописания никогда не бывают монолитными. Они осуществляются через борьбу и столкновения.
Уникальность Белинского в том, что в гнусной общественной обстановке его голос был слышен почти 15 лет. Ему и в печатных работах удавалось говорить достаточно свободно, несмотря на сводившую с ума цензуру. Атмосфера правления Николая I для современников казалась беспросветной. А. И. Герцен в «Былом и думах» приводит письмо Т. Н. Грановского. Оно начинается: «Положение наше становится нестерпимее день от дня». В нем историк рассказывает и о планах правительства закрыть университете, и о новой программе кадетских корпусов, коей предполагалось цензурировать евангельские истории: «Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины»[2]. Это писал интеллигентнейший Грановский. Белинский был человеком другого темперамента. Широко известны о нем слова хорошо его знавшего Герцена: «Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прорывался, то надобно было его видеть; он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль»[3].
Страстная мировоззренческая эволюция Белинского совершалась публично. Она сама по себе была событием русской общественной жизни. Такое возможно только при абсолютной искренности автора, искренности, прежде всего, по отношению к самому себе. Мужества для последнего у Белинского всегда хватало. Он мог о себе писать как какой-нибудь «железнобокий» Кромвеля: «Я признаю личную самостоятельную свободу, но признаю и высшую волю. <…> Устою – хорошо; паду – делать нечего. Я солдат у Бога: он командует, я марширую»[4]. Чувство призванности, правда, сочеталось у критика с самокритичностью. Герцен передает, как Белинский искренне пожал руку офицеру, который отказывался быть представленным ему как автору статьи о бородинской годовщине[5]. Сам критик писал: «Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всей искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения!» (с. 118). Освобождаясь от одной крайности, он знал, что может впасть в другую: «Я чувствую, что будь я царем, непременно бы сделался тираном» (с. 169). Каждому непредвзятому человеку было понятно, что с каждой новой идеей Белинский ставит эксперимент на себе, эксперимент с максимально высоким напряжением и с максимальной искренностью.
Другой стороной этой особенности Белинского была его речевая невоздержанность. Он бранил оппонентов площадными словами, публикации его писем пестрят пропусками из-за использования неприличных слов. Это сейчас в Украине стало поводом для рассмотрения русского критика как украинофоба. Скажем, Юрий Терещенко в газете «День» приводит слова Белинского из рецензии на работу Н. Маркевича «История Малороссии»: «Малороссия никогда не была государством, следовательно, и истории, в строгом значении этого слова не имела. История Малороссии есть не более как эпизод в царствовании царя Алексея Михайловича. История Малороссии — это побочная река, впадающая в большую реку русской истории. Малороссияне всегда были племенем и никогда не были народом, а тем более — государством... Так называемая Гетманщина и Запорожье нисколько не были ни республикой, ни государством, а были какою-то странною общиною на азиатский манер... Этот народ отлился и закалился в такую неподвижно-чугунную форму, что никаким образом не подпустил бы к себе цивилизацию ближе, чем на пушечный выстрел... Слившись навеки с единокровной ей Россиею, Малороссия отворила к себе дверь цивилизации, просвещению, искусству, науке, от которых дотоле непреодолимою оградою разлучал ее полудикий быт ее». Украинский автор делает выводы: «В.Белинский видел в захватнической политике России ее историческое предназначение. По его мнению, агрессивное расширение империи является мировой целесообразностью, все территориальные приобретения Москвы являются законными и стремлением к наиболее полному выявлению русского «национального духа». Поэтому говорить о ее насилии в отношении захваченных земель, мол, совершенно неуместно. В связи с этим ассимиляцию покоренных народов деятель считал положительным фактором и необходимым для их полноценного развития.
Белинский одним из первых почувствовал опасность для империи тех явлений, которые он наблюдал в украинской общественно-культурной среде эпохи романтизма. Кажется, что возрождение украинской духовности 20-х-40-х годов не нарушало лояльности к России и идеи «общерусскости», именно в этом русле и развивалось творчество «пионеров» украинского пробуждения этого периода»[6].
Реально в наследии Белинского можно найти разное. 14 июня 1846 г. он писал жене из Харькова: «Верст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров — чистота и красивость неописанные. Вообрази, что малороссийский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом), а о борще с сосисками и ветчиною хохлы и понятия не имеют. Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе. Дети очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя — хуже и гаже свиней»[7]. Так что, тут уж впору обижаться русским и обвинять Белинского в скрытом украинском национализме. К этому можно добавить изображение допетровской Руси исключительно черными красками. И быт там был тяжелый и бессмысленный, и политическая борьба: «Княжества враждовали между собою, но в этой вражде не было разумного начала, и потому из неё не вышло никаких важных результатов» (с. 137). О Новгороде он позволял себе писать еще хлестче: «От создания мира не было более бестолковой и карикатурной республики. Она возникла, как возникает дерзость раба, который видит, что его господин болен изнурительной лихорадкой и уже не в силах справиться с ним, как должно; она исчезла, как исчезает дерзость этого раба, когда его господин выздоравливает» (с. 148). Эта нелепость написана об отношениях Новгорода и Москвы. И в современной России есть авторы, которые обличают Белинского во всех грехах, заявляя с театральной аффектацией, что «Белинский еще хватает нас за горло костлявой рукой из могилы»[8].
Священная ненависть, мания фурибунда к Белинскому у деятелей украинской культуры связана со словами его о Т.Г. Шевченко и П.А. Кулише. Прямо скажем, слова чудовищные. В письме П.В. Анненкову от 1-10 декабря 1847 г. критик пишет об арестованном украинском поэте: «Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда негодная вещь. Вы помните, что верующий друг мой говорил мне, что он верит, что Шевченко - человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса - творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля - один на государя императора, другой - на государыню императрицу. Читая пасквиль на себя, государь хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда государь прочел пасквиль на императрицу, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: "Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?" И это понятно, когда сообразите, в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину. Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, доказывает, что они нисколько не злы, а только плоски и глупы), но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ничего ровно, и вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения»[9]. А вот пассаж из того же письма о Кулише: «Одна скотина из хохлацких либералов, некто Кулиш (экая свинская фамилия!) в "Звездочке" (иначе называемой <...>), журнале, который издает Ишимова для детей, напечатал историю Малороссии, где сказал, что Малороссия или должна отторгнуться от России, или погибнуть. Цензор Ивановский просмотрел эту фразу, и она прошла. И немудрено: в глупом и бездарном сочинении всего легче недосмотреть и за него попасться. Прошел год - и ничего, как вдруг государь получает от кого-то эту книжку с отметкою фразы. А надо сказать, что эта статья появилась отдельно, и на этот раз ее пропустил Куторга, который, понадеясь, что она была цензорована Ивановским, подписал ее, не читая. Сейчас же велено было Куторгу посадить в крепость. К счастию, успели предупредить графа Орлова и объяснить ему, что настоящий-то виноватый - Ивановский! Граф кое-как это дело замял и утишил, Ивановский был прощен. Но можете представить, в каком ужасе было министерство просвещения и особенно цензурный комитет? Пошли придирки, возмездия, и тут-то казанский татарин Мусин-Пушкин (страшная скотина, которая не годилась бы в попечители конского завода) накинулся на переводы французских повестей, воображая, что в них-то Кулиш набрался хохлацкого патриотизма, - и запретил "Пиччинино", "Манон Леско" и "Леон Леони". Вот, что делают эти скоты, безмозглые либералишки. Ох, эти мне хохлы! Ведь бараны - а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя - все марают. А с другой стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно проповедовать отторжение от него области?»[10].
Эти разнузданные высказывания трудно комментировать. Ясно, что поводом к ним стали опасения Белинского отвлечь правительство от главной проблемы того времени – отмены крепостного права. А это злополучное письмо как раз и начинается с выражения надежды, что дело сдвинулось с мертвой точки. Это не оправдывает автора, а лишь объясняет его мотивы. К тому же мотивы его основаны на слухах, которые вряд ли были достаточными основаниями для них.
Вообще, за невоздержанность и разнузданность письменной речи Белинского мог бы возненавидеть весь свет. Если бы ему ставили памятники в США, то движение BLM докопалось бы до его фразы: «Туземец Африки – ленивое, зверообразное, тупое существо, осужденное на вечное рабство и работающее из-под палки и смертельных истязаний» (с. 182). Не знаю, как в Германии относятся к такой его оценке: «Что за тупой, за пошлый народ немцы – святители!» (с. 460). Вся Азия должна содрогаться от имени русского критика, для которого «Восток умер в младенчестве, в то время, когда его сознание могло выражаться только в поэзии» (с. 293). Приведу самые воздержанные его слова о конкретных восточных странах: «Спокойных государств только два в мире – Китай да Япония; но лучшее, что производит первый, это чай, а вторая, кажется, лак: больше о них нечего сказать» (с. 154). Слов презрения, адресованных целым народам, в текстах Белинского много. Много слов о тех или иных писателях и общественных деятелях, которых он, в лучшем случае, называл дураками.
Но есть у русского критика и совершенно другие мотивы, поднимающие его над пошлостью и дуростью. В той же злосчастной рецензии на «Историю Малороссии» Николая Маркевича он писал: «И недалеко уже время, когда исчезнут мелкие, эгоистические расчеты так называемой политики, и народы обнимутся братски при торжественном блеске солнца разума, и раздадутся гимны примирения ликующей земли с умилостивленным небом» (с. 276). Несколько выспренно, но вполне определенно!
Синтез Белинского: социализм и диалектика
Но ведь не современной идеологической склокой важна для нас память о Белинском. Он был одной из важнейших фигур, обеспечивших синтез в общественной мыли Российской империи диалектики и социализма. Диалектика была преимущественно гегелевская, а социализм утопическим[11]. Это соединение создает взаимное критическое отношение соединенных сторон. О роли гегелевского учения метко высказался А. И. Герцен: «Философия Гегеля – алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя»[12].
Белинский воспринял идею социализма в версии сен-симонистов. 8 сентября 1841 года он писал В. П. Боткину: «Ты знаешь мою натуру: она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеи. Я с трудом и болью расстаюсь с старою идеею, отрицаю её донельзя, а в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в новой крайности, - это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Всё из неё, для неё и к ней. Она вопрос и решение вопроса» (с. 170). Русский критик воспринимал социализм как торжество справедливости одновременно и с гегелевским, и с христианским оттенком: «Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла, Христос даст свою власть отцу, а отец разум – снова воцарится, но уже в новом небе и над новою землею» (с. 175). От Христа, в котором он, наверное, усматривал первого социалиста, Белинский не отказался до конца жизни. Христос и церковь, по его мнению, враждебны друг другу. Он писал А. И. Герцену 26 января 1845 года: «Истину я взял себе, - и в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре» (с. 318). В июле 1847 года в знаменитом письме Н. В. Гоголю им сказано о религиозных исканиях автора «Мертвых душ»: «Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какой-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения» (с. 469).
Диалектика давала Белинскому свободу по отношению к различным интерпретациям идеи социализма. Это качается сен-симонистов, Пьера Леру и Луи Блана. Ему удалось сформировать коренной принцип социализма как общественного строя, ориентированного на общее благо: «Высочайший и священный интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов» (с. 406).
В речах своих Белинский часто выглядел экстремистом, славящим революционную гильотину[13]. Однако, диалектика давало ему возможность мыслить гибко. С одной стороны, он видел угнетенное положение рабочих в капиталистических странах, которое вовсе не облегчается юридически-правовым равенством их граждан: «Собственник, как всякий выскочка, смотрит на работника в блузе и деревянных башмаках, как плантатор на негра. Правда, он не может его насильно заставить на себя работать; но он может не дать ему работы и заставит его умереть с голоду. Мещане-собственники – люди прозаично положительные. Их любимое правило: всякий у себя и для себя. Они хотят быть правы по закону гражданскому и не хотят слушать о законах человечества и нравственности» (с. 312). Он ни минуты не сомневается, что во Франции «вся власть, все влияние сосредоточено в руках владельцев» (с. 313). Но, одновременно с этим, он понимает, что зло в капиталистическом обществе носит не индивидуальный, а системный характер. Конкретные капиталисты лишь агенты этой системы. Он в связи с этим пишет об Э. Сю: «Он не подозревает того, что зло скрывается не в каких-нибудь отдельных законах, а в целой системе французского законодательства, во всем устройстве общества» (с. 315).
Посмотрев на Францию собственными глазами, Белинский пишет Боткину в декабре 1847 года, что «владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором» (с. 463). Но отношение к буржуа у русского критика неоднозначное. С одной стороны, «торгаш – существо, цель жизни которого нажива, поставить пределы этой наживе невозможно» (с. 465). Если буржуа получают всю полноту государственной власти, то они её превращают в инструмент бизнеса: «Горе государству, которое в руках капиталистов. Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значат только возвышение или упадок фондов – далее этого они ничего не видят» (с. 465).
Однако, Белинский из этого не делает вывод о необходимости физического истребления буржуазии: «Я не принадлежу к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуазия – зло, что её надо уничтожить, что только без неё всё пойдет хорошо» (с. 466). Он понимает, что буржуазия – явление историческое, «словно гриб выросла» (с. 464), что она связана с определенным типом экономики, имеет великие исторические заслуги, ибо «средний класс всегда является великим в борьбе, в преследовании и достижении своих целей» (там же). Зло он видит в том, что государством овладевают крупные капиталисты. Возвращаясь к призывам расправы над буржуазией, он пишет: «Я с этим соглашусь только тогда, когда на опыте увижу государство, благоденствующее без среднего класса, а как пока я видал только, что государства без среднего класса осуждены на вечное ничтожество, то и не хочу заниматься решением а приори такого вопроса, который может быть решен только опытом. Пока буржуазия есть и пока она сильна, я знаю, что промышленность – источник и великих благ для общества. Собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом. Я согласен, что даже и отверженная порода капиталистов должна иметь свою долю влияния на общественные дела, но горе государству, когда она одна стоит во главе его!» (с. 466). Стало быть, государство должно контролировать буржуазию, а не она государство. В последнем должен осуществляться баланс интересов социальных групп, но ориентиром в этом должны быть общественный интерес, общественное благо.
Стремление к справедливости, а затем идея социализма позволяли Белинскому занять критическую позицию по отношению к философии Гегеля. Усвоение диалектического идеализма позволяло ему воспринимать «мир как дыхание единой, великой идеи» (с. 12). Однозначное истолкование фразы Гегеля о разумности действительности[14] привело его к примирению с действительностью, коего он затем стыдился, а на Гегеля сердился (с. 162). Но в октябре 1838 года он пишет М. А. Бакунину: «Глубоко уважаю Гегеля и его философию, но это мне не мешаете думать (может быть, ошибочно: что до этого?), что еще не все приговоры во имя её неприкосновенно святы и непреложны» (с. 99).
Белинский остро ощутил, что самостоятельное мышление – крайне сложная вещь: «Я бросаю абстрактные общности, хочу говорить о жизни по факту, о котором идет дело. Но это так трудно: мысль не находит слова, - и мне часто представляется, что я жалкий писака, дюжинная посредственность» (с. 123).
В поиске нужных слов этика и художественное восприятие шли рука об руку. 1 марта 1841 года Белинский писал Боткину: «Глупцы врут, говоря, что Гегель превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущиеся на воздухе, над кладбищем. Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношению к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны. <…> Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (т.е. гегелевской Allgemeinheit)» (с. 162). И далее он несколько литературно обращается непосредственно к немецкому философу: «Благодарю покорно, Егор Федорыч, кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, - я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступеньки бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови, - костей от костей моих и плоти от плоти моея» (с. 163).
Проблему разумности действительности Белинский предлагает решать конкретно: «Действительность возникает на почве, а почва всякой действительности – общество» (с. 170).
От философии Гегеля он не отказывается, но смотрит на неё, как на развивающееся явление: «Гегель сделал их философии науку, и величайшая заслуга этого величайшего мыслителя нового мира состоит в его методе спекулятивного мышления, до того верном и крепком, что только на его же основании и можно опровергнуть те из результатов его философии, которые теперь недостаточны или неверны: Гегель тогда только ошибался в приложениях, когда изменял собственному методу. В лице Гегеля философия достигла высшего своего развития, но вместе с ним же она и кончилась, как знание таинственное и чуждое жизни: возмужавшая и окрепшая, отныне философия возвращается в жизнь, от докучного шума которой некогда принуждена была удалиться, чтоб наедине и в тиши познать самое себя. Начало этого благодатного примирения философии с практикою совершилось в левой стороне нынешнего гегелианизма» (с. 280). Белинский специально следил за левым гегельянством: «Если мы сказали, что левая сторона гегелизма отложилась от своего учителя, это не значит, что она отвергла его великие заслуги в сфере философии и признала его учение пустым и бесполезным явлением. Нет, это значит только, что она хочет идти дальше, и, при всем её уважении к великому философу, авторитет духа человеческого ставит выше авторитета духа Гегеля» (с. 315).
Философия интуиция Белинского, не знавшего немецкого языка, заваленного поденной работой в журналах, не может не вызывать восхищения.
Философская эволюция Белинского
Понимание природы действительности у Белинского эволюционировало от абсолютного идеализма к дуализму. В 1835 г. он писал: «Вся вселенная, все сущее есть не что иное, как единство в многообразии, бесконечная цепь модификаций одной и той же идеи; ум, теряясь в этом многообразии, стремится привести его в своем сознании к единству, и история философии есть не что иное, как история этого стремления» (с. 85). Через несколько лет, в не публиковавшейся при жизни статье «Идея искусства», он наиболее полно излагает своё философское видение действительности. Несомненно, оно зависимо от Гегеля. Русский критик достаточно поверхностно был знаком с современным для него естествознанием. Но, тем не менее, это дало ему основание говорить о множестве миров и придавать фундаментальное значение материи. Правда, последнюю категорию он, вопреки мировой традиции, истолковывает как форму. Неизбежно нужно привести огромную цитату: «Нет конца вселенной, нет числа небесным телам, и все они делятся на миры, подчиненные один другому, и каждое из них есть часть целого, составляющее как бы живое органическое тело, и находится во взаимном отношении и взаимной зависимости от всякого другого, - и всё это пространство без границ, вся эта величина без измерения, все это множество без исчисления, составляющее собой единое и целое, родилось само из себя, заключая в себе и свои законы, и свои вечные неизменные числа и линии, и весь чертеж своего тоталитета. Вселенная есть божественная мысль, от вечности, довременного существования, как разумная возможность, и вдруг ставшая очевидною действительностию через воплощение в форму. В полноте её существования мы видим две, по-видимому, противоположные, но в сущности родственные и тождественные стороны: дух и материю. Дух есть божественная мысль, источник жизни; материя есть та форма, без которой мысль не могла бы проявиться. Очевидно, что оба эти элемента нуждаются друг в друге: без мысли всякая форма мертва, без формы мысль есть только могущее быть, но не сущее. В явлении они составляют единое и неразделенное, проникая друг друга и исчезая друг в друге. Процесс их слияния воедино (конкреции) есть таинство, в котором жизнь как бы скрывалась от самой себя, не желая и саму себя сделать свидетельницею своего величайшего акта, своего торжественнейшего священнодействия. Мы знаем необходимость, но только ощущаем или созерцаем таинство этого процесса. Он есть необходимое условие жизненности явлений, и его результат есть – организация, результат которой есть особенность, индивидуальность и личность» (с. 191 – 192). Итак, мир бесконечное, но единое, диалектическое целое, возникшее в результате взаимопроникновения духа и материи. Этот подлинно мистический акт породил и порождает индивидуальности, включая человеческую личность.
Весь мир находится в движении, ибо «мышление есть действие, а всякое действие необходимо предполагает при себе движение» (с. 179).
Нарисовав поэтическую, в духе шеллингианства, картину бракосочетания материи и идеи, Белинский не свел свое видение в непротиворечивый категориальный строй. Платонизм звучит в фразе: «Все явления природы суть ничто иное, как частные и особенные проявления общего. Общее есть идея» (с. 192). Последняя категория трактуется в духе Гегеля: «По философскому определению, идея есть конкретное понятие, которого форма не есть что-нибудь внешнее ему, но форма его развития, его же собственного содержания» (с. 192). Тут у Белинского остается незамеченное им и не разобранное противоречие. Идеи, очевидно, сущности довременные и допространственные. Как в этом случае с ними связано движение, являющееся атрибутом духа? В свернутом виде это противоречие кроется в этой фразе: «Идея по существу своему есть общее, ибо она не принадлежит ни известному времени, ни известному пространству; переходя в явление, она делается особенным, индивидуальным. Вся лестница творения есть не что иное, как обособление общего в частное, явление общего частным» (с. 193-194). Тут уж впору вновь сослаться на таинство процесса, ибо рационально его понять невозможно!
Беспокойная мысль Белинского на дуализме не остановилась, очевидно, эволюционируя в сторону антропологического материализма. 17 февраля 1847 г. он писал Боткину о Конте, с позитивистскими идеями которого ознакомился по журнальной публикации. Здесь есть слова: «Метафизику к черту: это слово означает сверх натуральное, следовательно, нелепость, а логика, по самому своему этимологическому значению, значит и мысль, и слово» (с. 459). Важнейшее гегелевское понятие он уже наполняет иным содержание, хотя не понятно, зачем оно для этого содержания: «Абсолютная идея, абсолютный закон: это одно и то же, ибо оба выражают нечто общее, универсальное, неизменяемое, исключающее случайность» (с. 458).
К факторам развития общества он относил не только саморазвитие абсолютного духа, но и географическую среду обитания народов, а также развитие техники. Так, он писал о паровых машинах, «почти уничтоживших время и пространство» (с. 184). От технического прогресса зависит состояние общества: «Железные дороги пройдут и под стенами и через стены, туннелями и мостами, усилением промышленности и торговли они переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в те живые и тесные отношения, которые невольно сглаживают все резкие и ненужные различия» (с. 325).
Об уме он годом раньше в большой статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» писал: «Ум без плоти, без физиологии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя её действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум – это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность» (с. 354).
В уже цитированном письме Боткину Белинский иронизирует по поводу построения законченных философских систем: «Добрый Одоевский раз по случаю уверял меня, что нет черты, отделяющей сумасшествие от нормального состояния ума, и что ни в одном человеке нельзя быть уверенным, что он не сумасшедший. В приложении не к одному Шеллингу как это справедливо! У кого есть система, убеждение, тот должен трепетать за нормальное состояние своего рассудка» (с. 459).
Увлекаясь немецкой философией, Белинский мог размышлять о космических масштабах воплощения абсолютного духа в природе, но сердце его оставалось на Земле. Размышляя о поэзии Юлии Жадовской, он говорит, что поэт, стремящийся в занебесную высь, не осознает, «что там, на высоте, куда ему так хочется, и пусто и холодно, и нет воздуха для дыхания, что от звезды до звезды и в тысячу лет не долетишь на лучшем аэростате. <…> То ли дело Земля: - на ней нам и светло, и тепло, на ней всё наше, все близко и понятно нам, на ней наша жизнь и наша поэзия» (с. 362), Про аэростат как средство перемещения в межзвездном пространстве умолчу. Но скажу, что критик как будто почувствовал смертельный холод этих пространств и, ужаснувшись ему, приник к Земле.
Прогресс, человек , общество и человечество
Белинский как-то очень метко выразился о значении занятой позиции в познании действительности: «Но кто, видя предмет, не смотрит на него ни с какой точки зрения, тот немного выиграл тем, что у него есть глаза» (с. 288). Свою главную познавательную установку он сформулировал достаточно рано. В письме, написанном в октябре 1838 года к М. А. Бакунину, он писал: «Я разумею действительность не в её общем и абсолютном значении, а в отношениях людей между собой» (с. 99).
Будучи большую часть своей земной жизни диалектическим идеалистом, Белинский соединял всеобщий эволюционизм и веру в прогресс. В «Идее искусства» он писал: «Природа есть как бы средство для духа стать действительностию и увидеть и осознать самого себя. Посему её венец – человек, с которым окончилась и на котором остановилась её творческая деятельность. Гражданское общество есть средство для развития человеческих личностей, которые суть – все, и в которых живет и природа, и общество, и история, в которых снова повторяются все процессы мировой жизни, то есть природа и история» (с. 184).
Сказанное требует обширных комментариев. Постараемся развернуть его смысл другими мыслями Белинского. Во-первых, прогресс есть развитие абсолютного духа через развитие природы и человека. Русский критик даже выводит, что «закон всякого развития есть то, что каждый последующий момент выше предшествующего» (с. 181). Это крайне упрощенное понимание прогресса, видимо, опирается на убеждение в торжестве во всей действительности необходимости: «И в природе, и в истории владычествует не слепой случай, а строгая, непреложная внутренняя необходимость, по причине которой все явления связаны друг с другом родственными узами, в беспорядке явлений стройный порядок, в разнообразие единство, и по причине которой возможна наука» (с. 184). Конечно, при таком взгляде на действительность проблемой становится эмпирически фиксируемая случайность. Белинский переводит её на положение, скажем так, эпифеномена: «Такой взгляд на историю далек от всякого фатализма: он допускает и произвол и случайность, без которых жизнь была бы механически-несвободна, но в произволе и случайности он видит зло временное и преходящее, видит силу, которая вечно борется с разумною необходимостию и вечно побеждается ею» (с. 283). Белинский уточнял свое понимание прогресса, связывая его с органическим развитием: «Всякое органическое развитие совершается через прогресс, развивается же органически только то, в чем каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им объясняется» (с. 380). А что же не относится к органическим сущностям? Если исходить из текстов Белинского, то ничего существенного ни в природе, ни в обществе. Писал же он восторженно: «Какая правильная постепенность, какая строго непреложная последовательность в этих переходах из низшего рода в высший, из низшей организации в высшую, в этом бесконечном стремлении духа найти самого себя, как самосозидающую личность» (с. 182).
Во-вторых, Белинский не имел стройной системы представлений о происхождении человека и общества. Ему приходилось совершать скачек от всеобщих философских утверждений о вселенской необходимости человека в развитии абсолютного духа к эмпирическому существованию общественных существ. Получалась концептуализация на уровне здравого смысла: «Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества, нигде не скрыться, никуда не уйти ему от него» (с. 250 – 251). Обратим внимание на то, что в данном случае Белинский понятие «общество» употребляет во всеобщем смысле, для обозначения особой бытийной формы, или, как выражались в марксизме, для обозначения особой формы движения материи. На него он распространяет свои дуалистические взгляды. Так, он писал, что нужно показать «общество, как предмет многосторонний, организм многосложный, который состоит из души и тела, и в котором, следовательно, нравственная сторона должна быть тесно связана с практическою и интересы духовные –с выгодами материальными» (с. 300).
В-третьих, туманная общая концепция, видимо, важна для Белинского своими конкретными экспликациями. Из положения о человека, как вершине развития природы, он выводит требование гуманности в общественной жизни. Он способствовал утверждению в русском литературном языке самого семантического ряда: гуманизм, гуманность, гуманизация. Ему еще приходится объяснять, что «это то, что немцы называют гуманностию (Humanität). <…> О самом же слове скажем, что немцы сделали его из латинского слова humanus, что значит человеческий. Здесь оно берется в противоположность слову “животный”. Когда человек поступает с людьми, как следует человеку поступать с своими ближними, братьями по естеству, он поступает гуманно; в противном случае он поступает, как прилично животному. Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием» (с. 417-418).
Гуманизм не заключается только в сочувственном отношении людей друг к другу. Белинский иногда высказывался в духе социологического реализма, предполагающего бытийный приоритет общества над индивидом. Поэтому гуманность неотделима от общественного устройства. Например, он писал: «Зло скрывается не в человеке, но в обществе, - так как общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, ещё далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что в них только и видишь много преступлений» (с. 233).
Этими тремя пунктами вовсе не исчерпываются все возможности интерпретации положения Белинского о человеке и обществе. Остается еще глубокая мысль о том, что в человеческой личности, смертной и недолговременной, но являющейся живым центром общественной жизни, разыгрываются все моменты развития природы и человеческой истории.
Народ и нация. Западники и славянофилы
Белинский пользовался довольно обширной понятийной сетью для анализа конкретных состояний общества, различных социальных групп и слоев. Большая часть его творческого пути было связано с выяснением отношений между народом, народностью, нацией, обществом (в узком и широком значениях) и человечеством. Все эти понятия развивались им в связи с анализом исторического развития России.
В 1830-1840-е гг. и в Европе, и в Российской империи значимость в описании социального мира приобрели понятия «народ» и «народность». Вокруг них шла идейная борьба. Уваровская триада «самодержавие, православие, народность» отторгалась самостоятельно мыслящими людьми. Интеллектуальные лагеря славянофилов и западников давали свои трактовки народа и народности.
Русский раскол на славянофилов и западников имеет всемирное значение. Их борьба дала всплеск философского творчества. В результате появилась, скажем, теория цивилизации. Но дело не просто в появлении тех или иных теорий. Догоняющая модернизация в России была осмыслена на самых верхних регистрах духовных вибраций общества. Конечно, в первую очередь, она рассматривалась как теоретическая и практическая проблема, но и проблема экзистенциальная. Белинский с его страстным темпераментом, в этом деле сыграл одну из основных ролей. С него начинается отрефлексированное западничество, а это в свою очередь позволило консолидироваться славянофилам.
Начиная с «Литературных мечтаний», сделавших его знаменитым, Белинский констатирует раскол между народом и обществом в России после петровских реформ. Он писал, что «народ или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у нас врозь» (с. 22). Общество он здесь понимал как круг образованных людей, «большой свет», beau monde. Народ – это коллективная личность. Её возникновение он связывал с комплексом духовных и материальных факторов. Специфика народа заключается «в особенном, одному ему принадлежащем образе мысли и взгляде на предметы, в религии, языке и более всего в обычаях. Все эти обстоятельства чрезвычайно важны, тесно соединены между собою и условливают друг друга, и все проистекает из одного общего источника – причины всех причин – климата и местности» (с. 18). Такое понимание, несомненно, имеет своим источником труды французских просветителей, прежде всего, географический детерминизм Монтескьё. К этому Белинский добавляет язык, который его интересовал профессионально: «Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нем, сообразно с сими законами» (с. 26).
В этом раннем произведении Белинского появляется тема, которая будет его сопровождать всю жизнь – соотношение народа и человечества. В мистическом ключе он решает и скользкую проблему исторических и неисторических народов: «Каждый народ, вследствие непреложного закона провидения, должен выражать своею жизнию одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае, этот народ не живет, а только прозябает, и его существование ни к чему не служит» (с. 17).
К началу 1840-х годов Белинский определяет народ и нацию через взаимное отношение: «Под народом более разумеется низший слой государства, - нация выражает собой понятие о совокупности всех сословий государства. В народе еще нет нации, но в нации есть и народ» (с. 130). Разграничение и соотнесение трудно назвать четким. Однако, если следовать логике автора, то можно сказать, что нация – политическое объединение, а народ – примордиальное. Последнее видно из следующего заключения: «Каждый народ имеет свою субстанцию, как и каждый человек, и в субстанции народа заключается вся его история и его различие от других народов» (с. 132). И далее: «Всякий же народ – индивидуальность, подобно отдельному человеку» (с. 137).
Словоупотребление у Белинского не строгое. Поэтому, скажем, в своем зрелом произведении «Сочинения Александра Пушкина» он об упомянутой субстанции выражается следующим образом: «Тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи» (с. 213).
Общество в узком смысле слова – это совокупность людей разных сословий, связанных единством умственных интересов, уровнем умственного и нравственного развития. «Общество живет известной суммою известных убеждений, в которых все его члены сливаются воедино, как лучи солнца в фокусе зажигательного стекла, понимают друг друга, не говоря ни слова» (с. 171). Мы могли бы сказать, что это совокупность людей, связанных неким ценностным консенсусом. Общество в громадной степени – синоним читающей публики. Общество образует и движет его развитие литература, журналы. Думаю, Белинский осознавал назначение своей колоссальной критической работы как деятельности по развитию общества в Российской империи. Он прямо писал: «Влияние литературы на общество было гораздо важнее, нежели как у нас об этом думают: литература, сближая и сдружая людей разных сословий узами вкуса и стремлением к благородным наслаждениям жизни, сословие превратила в общество» (с. 216).
Характер русского общества
Особенности русского общества Белинский выводил из его истории, отправной точкой которой были петровские преобразования сверху: «Да, у нас все должно было начинаться сверху вниз, а не снизу вверх, ибо в то время, как мы почувствовали необходимость сдвинуться с места, на котором дремали столько веков, мы уже увидели себя на высоте, которую другие взяли приступом. Разумеется, на этой высоте увидел себя не народ (в таком случае ему не для чего было бы и подниматься), а правительство и то в лице только одного человека – царя своего» (с. 149).
Белинский не знал понятий «мировая капиталистическая система», «колониализм», но сделал верный вывод, что без реформ Петра I, со всеми их чудовищными издержками, Россия не сохранила бы свою самостоятельность. Он писал: «Правда, и без реформы Петра Россия, может быть, сблизилась бы с Европою и приняла бы её цивилизацию, но точно так же, как Индия сблизилась с Англиею» (с. 150). Спешность своеобразной «революции сверху» Петра I обусловила крайность методов: «Он понял, что полумеры никуда не годятся и только портят дело; он понял, что коренные перевороты в том, что сделали веками, не могут производится вполовину, что надо делать или больше, чем можно сделать, или ничего не делать, и понял, что на первое станет его сил» (с. 150).
Из характера насильственных верхушечных реформ вытекал и характер русского общества: «Наше общество, состоящее из образованных сословий, есть плод реформы. Оно помнит день своего рождения, потому что оно существовало официально прежде, нежели стало существовать действительно; потому что, наконец, это общество долго составлял не дух, а покрой платья, не образованность, а привилегии. Оно началось так же, как и наша литература: копированием иностранных форм без всякого содержания, своего или чужого, потому что от своего мы отказались, а чужого не только принять, но и не принять, не были в состоянии» (с. 251).
Следует заметить, что с Петром I Белинский обходился не так как с другими великими людьми. Он его сравнивает с Иисусом Навином: «И природа отступила для него от своих вечных законов, и возможность стала для него волшебством» (с. 150). Как это расходится с его же анализом роли великих людей в истории! В теории они выступали функцией развития общества: «Великий переворот был уже готов: осталось случаю выдвинуть на сцену человека, который, по своей натуре и своему развитию, мог бы сделаться органом общей мысли, главою движения, представителем века, героем его драмы» (с. 125). Относительно Лютера, служившего объектом интерпретации, русский критик спокойно констатировал: «Лютер мог умереть и до начала и в начале, и в половине реформации, но дело все пошло бы своим чередом. Оно могло замедлиться, могло совершиться в другой форме, мог бы явиться другой Лютер, как бы то ни было, только оно совершилось бы, а как именно – об этом рассуждать бесполезно» (с 125).
Народы существуют в человечестве. По мнению Белинского, «задача истории – представить человечество, как индивидуум, как личность, и быть биографиею этой “идеальной личности”. Человечество есть “идеальная личность”: личность – потому что у него есть своё Я, есть своё сознание, хотя и выговариваемое не одним, а многими лицами; есть свои возраста, как и у человека, есть развитие, движение вперед; идеальная – потому что нельзя эмпирически доказать её существование, указав неверующему пальцем и сказавши “вот человечество – смотри!”» (с. 270). Хотя человечество только начало осознавать свое единство, но Белинский приходит к скоропалительному выводу, что «в наше время народные вражды и антипатии погасли совершенно» (с. 365). Именно применительно к человечеству русский критик применяет гегелевскую форму спиралеобразного развития: «Человечество движется не прямою линиею и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая точка пережитой им истины в то же время есть уже и точка поворота его от этой истины, - правда, поворота не вверх, а вниз: но для того вниз, чтобы очертить новый, более обширный круг и стать в новой точке, выше прежней, и потом опять идти, понижаясь, кверху» (с. 270-271). Человечество бессмертно и не имеет пределов развития, хотя и развивается через смерть индивидов. В системе взглядом Белинского человечество занимает большое место, но оно имеет абстрактный, бесплотный характер. Он не занимается приведением в систему своих взглядов о всемирном предназначении разных народов, о народах исторических и неисторических. Безусловно, сильной стороной Белинского является взгляд на человечество как на единство в разнообразии. Больше и ярче он писал о Европе.
Миф Европы
Западничество Белинского даже заключало в себе то, что можно назвать мифом Европы. Так, изобразив самыми мрачными красками жизнь допетровской Руси, он противопоставлял ей Европу и писал, что там «было развитие жизни, движение идей; подле яду там росло и противоядие – за ложным или недостаточным определением общества тотчас же следовало и отрицание этого определения другим, более соответствующим требованию времени определением» (с. 147). Белинского нельзя назвать фанатиком западничества. Он не предполагал переделку соотечественников по лекалам других народов и говорил, что «хотим быть русскими в европейском духе» (с. 152). Познакомившись лично с Западной Европой, он оставался при мнении о единстве путей развития Европы и России, но вовсе не идеализировал конкретных форм европейской жизни. Славянофильской утопии он уже не противопоставлял идеализированный Запад, а писал: «Как и у славянофилов, у нас есть свой идеал нравов, во имя которого мы желали бы их исправления; но наш идеал не в прошедшем, а в будущем, на основании настоящего. Вперед идти можно, назад нельзя, и что бы ни привлекало нас в прошедшем, оно прошло безвозвратно» (с. 369).
В России обществу противостояло сословное деление. Белинский писал: «В нашем обществе преобладает дух разъединения: у каждого нашего сословия все своё, особенное – и платье, и манеры, и образ жизни, и обычаи, и даже язык. Чтоб убедится в этом, стоит только провести вечер, на котором сошлись бы нечаянно чиновник, военный, помещик, купец, мещанин, поверенный по делам или управляющий, духовный, студент, семинарист, профессор, художник, - увидя себя в таком обществе, вы можете подумать, что присутствуете при разделении языков» (с. 323).
Экзистенция
Это создавало особую экзистенциальную атмосферу деятельности и самого критика, и людей его круга. После смерти Н. В. Станкевича он писал К. С. Аксакову: «Мы люди без общества! У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной – жизни. Скука, апатия, томление в бесплодных порывах – вот наша жизнь!» (с. 117). В декабре 1840 г. он пишет Боткину, с одной стороны, что у него «больше готовности умереть и пострадать за свои убеждения» (с. 118), а, с другой стороны, жалуется «никого возле меня» (с. 121). При этом всего несколькими строчками прежде рассказывает о дружеских отношениях с Герценом, который, в свою очередь, писал: «Кроме Белинского, я расходился со всеми, с Грановским и с Е. Коршем»[15]. Узкий круг интеллектуалов, расходящихся по важнейшим вопросам, порождал склоки. Отсюда и словесная невоздержанность, шокирующая современных читателей.
Белинский хотел дела. Он неоднократно писал: «У меня нет охоты смотреть на будущее; вся забота – что-нибудь делать, быть полезным членом общества. А я делаю, что могу» (с. 101). Или вот еще он писал Боткину о действительности: «Не любоваться же на неё, сложа руки, а действовать елико возможно, чтоб другие потом лучше могли жить, если нам никак нельзя было жить. Как же действовать? Только два средства: кафедра и журнал – все остальное вздор» (с. 122).
Белинский – человек будущего
Когда мы говорим о Белинском, то мы говорим не просто о человеке, жившем в первой половине XIX века. Мы говорим о дне нынешнем и дне будущем. Это утверждение может показаться преувеличением. Ведь Белинский не создал стройной философской системы, а о социологии, видимо, даже не имел представления. Его заслуга в ином. Он заложил традицию мысли, которая не останавливается на каких-то достигнутых результатах. Русский критик писал: «Я из числа людей, которые на всех вещах видят хвост дьявола, - это, кажется, моё последнее миросозерцание, с которым я и умру» (с. 163). Любые конечные выводы превращаются в отчужденные идеальные объекты и входят в противоречие с вечным движением к истине.
Не следует превращать в законченные истины и утверждения самого Белинского, что пытались делать в истории нашей страны. Это омертвляло его живую мысль.
Стремясь к истине, Белинский ориентировался на общественные интересы, как высшую ценность. На этом основании его пытались сделать предшественником социал-демократов. Его идеи без сомнения участвовали в их становлении и развитии в России. Учение Плеханова об исторических личностях во многом совпадает с положениями Белинского. Его стилистика перекликается со стилистикой текстов Ленина. Можно найти потрясающие совпадения в риторике этих деятелей. Белинский писал родственнику: «Итак, учиться, учиться и ещё раз учиться! К черту политику, да здравствует наука!» (с. 96). Ленин, наверное, не зная об этих словах предшественника, также троекратно повторяет совет «учиться» комсомольцам. Ленин, анализируя произведения Л. Н. Толстого, явно вдохновлялся анализом творчества Пушкина у Белинского.
Но Белинский был предшественником не только социал-демократов, а всех левых интеллектуалов. В силу этого – он не только человек прошлого, но и человек будущего.
Литература
- Белинский В. Г. Избранные философские сочинения / Под общей редакцией и со вступительной статьей М. Т. Иовчука. Редакция текста и комментарии В. С. Спиридонова. М.: ОГИЗ Государственное издательство политической литературы, 1941. 562 с.
- Белинский В. Г. М. В. БЕЛИНСКОЙ Харьков. 1846, июня 14. URL https://dralexandra.livejournal.com/40109.html
- Белинский В. Г. Письма П. В. Анненкову. URL http://dugward.ru/library/belinsky/belinskiy_pisma_annenkovu.html
- Володин А. И. Гегель и русская социалистическая мысль XJX века. М.: Мысль, 1973. 304 с.
- Гегель. Философия права / Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц; Авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсесянц. М.: Мысль, 1990. 524 с.
- Герцен А. И. Былое и думы. Части 1-3. 455 с. Части 4-5. 707 с. Части 6-8. 639 с. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958.
- Ермичев А. А. К вопросу о роли В. Г. Белинского в истории русской философии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Т.13. Вып. 1. С. 75 - 83.
- Терещенко Ю. «Корифей» шовинизма // День. 2020, 23 апреля. URL http://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-ya/korifey-shovinizma
[1] Ермичев А. А. К вопросу о роли В. Г. Белинского в истории русской философии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Т.13. Вып. 1. С. 81.
[2] Герцен А. И. Былое и думы. Части 4-5. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. С. 120.
[3] Там же. С. 24-25.
[4] Белинский В. Г. Избранные философские сочинения / Под общей редакцией и со вступительной статьей М. Т. Иовчука. Редакция текста и комментарии В. С. Спиридонова. М.: ОГИЗ Государственное издательство политической литературы, 1941. С. 101. Далее ссылки на это издание: в тексте в скобках указываются страницы.
[5] Герцен А. И. Былое и думы. Части 4-5. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. С. 21.
[6] Терещенко Ю. «Корифей» шовинизма // День. 2020, 23 апреля. URL http://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-ya/korifey-shovinizma
[7] М. В. БЕЛИНСКОЙ Харьков. 1846, июня 14. URL https://dralexandra.livejournal.com/40109.html
[8] Любжин А. Похоронить Белинского // Горький. 1 февраля 2021 г. URL https://gorky.media/context/pohoronit-belinskogo/
[9] В.Г. Белинский. Письма П.В. Анненкову. URL http://dugward.ru/library/belinsky/belinskiy_pisma_annenkovu.html
[10] Там же.
[11] Володин А. И. Гегель и русская социалистическая мысль XJX века. М.: Мысль, 1973. С.46.
[12] Герцен А. И. Былое и думы. Части 4-5. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. С. 17.
[13] Там же. С. 27.
[14] В русском переводе (Гегель. Философия права. М.: Мысль, 1990): «Что разумно» то действительно; и что действительно, то разумно» (с. 53).
[15] Герцен А. И. Былое и думы. Части 4-5. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. С. 188.
Илья Кононов, социолог
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
 Версия для печати
Версия для печати